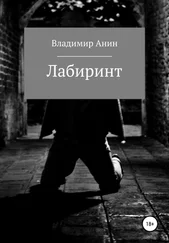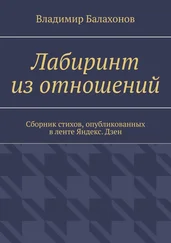Подробная реконструкция Указа опубликована Габриэлем Суперфином в уже упоминавшейся книге, поэтому не буду повторяться. Скажу лишь, что под действие Указа из граждан СССР подпадали те, кому вменялась статья 58-1 УК РСФСР (измена Родине), [166]в частности, служба в органах самоуправления и «выполнение заданий оккупантов по сбору продовольствия, восстановлению важных для оккупантов предприятий и др., совершенные с целью оказания помощи врагу». Совершенно очевидно, что под измену Родине можно было подвести и бухгалтера, работавшего в горуправе, и плотника, починившего табуретку, на которой этот бухгалтер сидел. Как пособничество врагу квалифицировались, например, «стирка белья немецким солдатам», «чистка картошки на немецкой кухне или мытье полов в помещениях, занятых немцами». [167]Отсюда следует, что драконовский Указ охватывал практически все трудоспособное население оккупированных территорий. Ведь каждый, пишет Солженицын, «мог вместе с ежедневным пропитанием заработать себе и будущий состав преступления: если уж не измену родине, но хотя бы пособничество врагу». Спасибо и за то, что пособничество не каралось повешением, а всего-навсего каторгой!
Так вот — положа руку на сердце: у кого из нас сегодня повернется язык обвинить этих несчастных людей в лжесвидетельстве? Многие ли из нас, сегодняшних либералов и правдолюбцев, проявили бы независимость суждений перед лицом чрезвычайных обстоятельств, когда на одной чаше весов — абстрактная правда (да и не абстрактная, а в пользу оккупантов), а на другой — собственная жизнь, жизнь и свобода семьи? Ведь советские номенклатурные историки лгали о Катыни, когда им уже ничего не грозило, и лгали с упоением — так чья вина больше? И потом мы ведь не знаем, кто из свидетелей попал в «Сообщение», а кто нет: быть может, среди непопавших были бесстрашные люди? (Я в это верю.) Наконец, где гарантия, что показания не перевраны, не отредактированы (как раз в обратном мы и убедились в предыдущей главе)?
Поскольку мне еще предстоит упоминать Указ от 19.4.1943, объективности ради следует сказать, что 26.5.1947 смертная казнь в мирное время была отменена, вместо нее вводилась новая санкция — 25 лет лагерей. 12.1.1950 смертную казнь, однако, восстановили. «А убрать четвертную забыли, так и осталась», — замечает Солженицын. В 1955 году изменникам и пособникам была объявлена амнистия [168](нетрудно подсчитать, что под нее скорее всего и попала З. П. Конаховская), но применяли ее избирательно, многие остались отбывать свой срок. Могу сослаться, в частности, на свидетельство Сергея Ковалева, недавнего политзаключенного, а ныне народного депутата РСФСР. На встрече группы депутатов с председателем КГБ Крючковым он привел пример Михаила Тараховича из Белоруссии, который был насильно мобилизован в германскую армию, через 17 дней дезертировал, впоследствии в составе частей уже Красной Армии дошел до Берлина — и тем не менее тех 17 дней ему не простили, причем когда А. Д. Сахаров пытался добиться пересмотра дела Тараховича, прокуратура его попросту обманула, сообщив, что такой заключенный в советских лагерях не числится. Тарахович теперь на свободе, но это. по словам С. А. Ковалева, не единственный старик, до сих пор отбывающий наказание за «военные преступления». [169]Не коснулся их и недавний Указ от 16.1.1989 «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости…», отменивший постановления ОСО и «троек». Бесспорно, дела эти надо пересматривать строго в индивидуальном порядке(реабилитировать всех скопом вообще, по-моему, недопустимо — ведь опять вышло, что кроме «системы» никто персонально в беззакониях не виновен), [170]но горе в том, что настрой у наших правоохранительных органов прямо противоположный, ничего они пересматривать, похоже, и не собираются. Вот, к примеру, что ответил начальник отдела Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции В. Г. Провоторов на вопрос корреспондентов «Советской культуры» (номер от 25.2.1989): «А много ли действительных шпионов, врагов было выявлено в тридцатые годы?»
«Мне такие встречались редко. Другое дело — сороковые годы. Здесь и полицейские, и каратели, и те, кто добровольно вступал в легионы. Есть такие, кто из лагерей попадал в трудовые батальоны. За это немцы их ставили на довольствие, предоставляли разною рода льготы — 150 марок в месяц, две сигареты в день. одежду, пригодную для носки. Находились люди, погибавшие в лагерях от голода и выбравшие трудовую армию. Между тем именно они строили оборонительные сооружения, восстанавливали разбомбленные аэродромы, входили в какие-то вспомогательные войска — то есть, укрепляли в определенной степени военную мощь противника. Эти люди были наказаны и не подлежат реабилитации как способствующие врагам» . [171]
Читать дальше
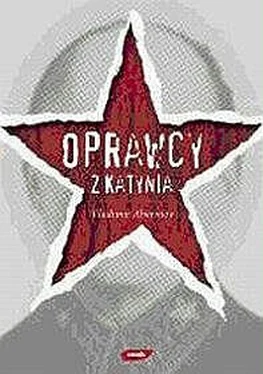

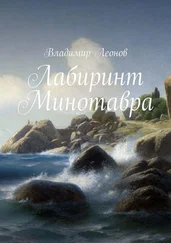
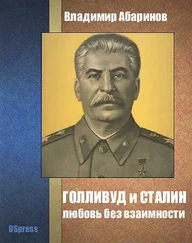
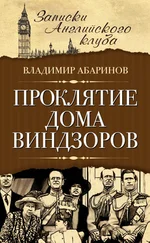
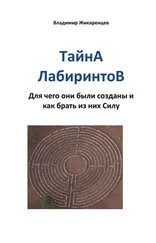
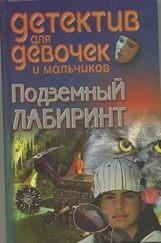
![Владимир Чуринов - Лабиринт верности [СИ]](/books/395124/vladimir-churinov-labirint-vernosti-si-thumb.webp)