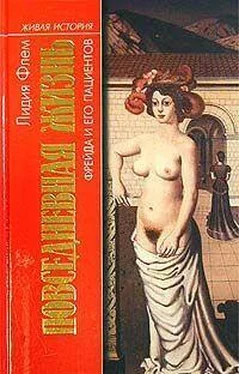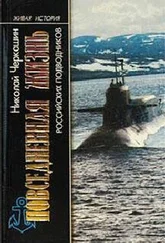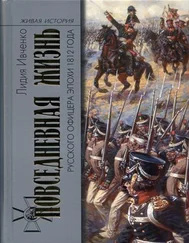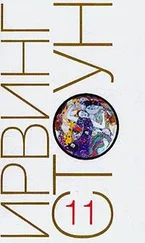Именно об этом писал Фрейд своей невесте Марте из Парижа: «Лишь в конце вечера (у Шарко) у меня завязалась беседа на политические темы с Жилем де ля Туреттом, в которой он, естественно, начал говорить о неизбежности самой страшной из бывших когда-либо войн – войны с Германией. Я сразу же сказал ему, что я не немец и не австриец, а еврей. Подобные разговоры мне всегда очень неприятны, поскольку каждый раз я чувствую, как во мне начинает шевелиться что-то от немца, что я уже давно решил уничтожить в себе».
«Травмированное Я», оказавшееся в таком положении из-за невозможности гармонично сочетать в себе немецкое, австрийское и еврейское начала, вынашивало многочисленные планы того, как выстоять перед лицом этой новой угрозы. С одной стороны, рождались политические решения в виде австромарксизма или сионизма, с другой – рассматривались подходы, лежащие в сфере искусства и психики.
Во времена его детства из-за господствовавшего тогда либерализма у Фрейда могло сложиться впечатление, что политическая карьера для него открыта и что ему уже уготовано место в венском обществе. Когда ему было одиннадцать или двенадцать лет, он сидел с родителями в одном из кафе Пратера, и развлекавший там публику поэт-импровизатор посвятил ему несколько стихотворных строк, в которых предсказал, что наступит день, когда мальчик станет министром. В то время эта идея вовсе не казалась абсурдной. «Каждый подающий надежды еврейский мальчик видел перед собой министерский портфель», – писал Фрейд в «Толковании сновидений». Он, видимо, так и не смог простить Вене того, что она перестала проявлять понимание, либерализм и великодушие к честолюбивому еврейскому мальчику, и постигшее Фрейда разочарование часто прорывалось в его взрослых сновидениях.
В год тридцатилетия Фрейд открыл свой первый медицинский кабинет как частный врач-невролог. Любопытно, что это событие произошло в Пасхальное воскресенье – праздник, к которому у Фрейда было особое отношение: он хотел войти в новую культуру, не растеряв при этом культурного наследия своих предков; ассимилировать, но не ассимилироваться, иными словами – начать говорить на новом языке, не забывая родного. Своему другу Флиссу он писал: «Если бы я сказал: "Следующую Пасху в Риме", я бы уподобился благочестивому иудею». Таким вот удивительным образом он умудрился в трех словах соединить христианское пожелание провести следующую Пасхальную неделю в Риме с традиционной фразой иудеев, которые заканчивают Пасхальную неделю словами: «Следующий год в Иерусалиме». Он осуществил свою месть, смыл оскорбление, нанесенное его отцу, и даже пошел дальше. Он завоевал не только любовь своей матери-иудейки, но и любовь своей няни-католички. Не рассказывала ли ему эта последняя сразу же после смерти его ненавистного соперника – младшего брата Юлиуса о Святом Воскресении, ведь оба эти события пришлись как раз на Пасху? Не было ли открытие медицинского кабинета в праздничный день своеобразной данью памяти умершему Юлиусу, осознанием и искуплением своей вины, заключавшейся в том, что сам он остался жить и оказался победителем в их соперничестве за любовь матери? Да и само открытие кабинета было своего рода противоречивым действием, поскольку занятия частной практикой подразумевали частичный отказ от научно-исследовательской деятельности и от славы как награды за научные открытия. А может быть, за этим объявлением об открытии кабинета в праздничный день крылась одна из тех оплошностей, тех странностей повседневной жизни типа оговорок и описок, которым до Фрейда никто не придавал значения? Да и сам Фрейд в то время еще не увидел в этом совпадении проявления бессознательного, хотя с самого начала своей учебы думал лишь об одном: найти что-нибудь такое, что позволило бы ему прославиться.
Нотки покорности судьбе звучали в его словах, адресованных невесте: «Я думаю, что теперь все время, оставшееся до конца моего обучения, я буду проводить в больнице и по примеру goyim [15]скромно трудиться, набираясь опыта и оказывая помощь любому страждущему, не стремясь к открытиям и глубоким изысканиям». Но при всем при том, в свои почти тридцать лет вступая на этот путь, чтобы занять достойное положение в обществе, чтобы удовлетворить свое честолюбие, добившись профессиональных высот, чтобы скопить достаточно денег и жениться наконец на Марте, он чувствовал себя человеком, «унаследовавшим дух бунтарства и всю ту страсть, с которой (его) предки защищали свой Храм, свою веру».
Читать дальше