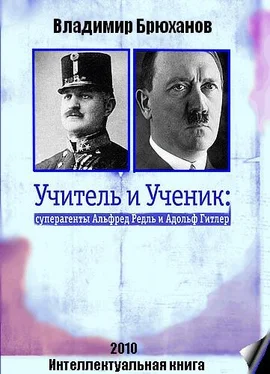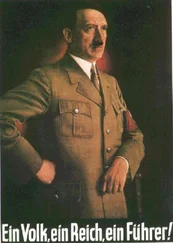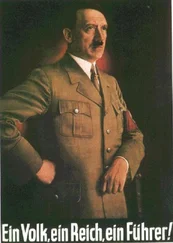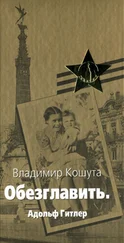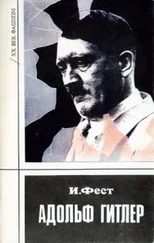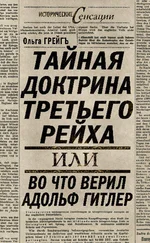Содержание же высказываний передается в исключительно решительных формулировках: Мы должны избавить вооруженные силы от этого потрясения! Предатель не имеет права жить! Если нет причин против этого, то предатель должен предстать перед небесным судьей ! [326] Ebenda.
— последнее звучит как совершенно недвусмысленный призыв к убийству — так оно, возможно, и происходило на самом деле!
Урбанский подчеркнул, что мнение Конрада стало руководством ко всему последующему, однако не отрицал, что оно основывалось на сообщениях двоих остальных — то есть Ронге и его самого. Сразу возникает несколько недоуменный вопрос: а чем это мог сам Урбанский дополнить доклад Ронге?
Но на этот вопрос мы-таки сможем позднее получить ответ!
Они трое, также пишет Урбанский, и были единственными, полностью понимавшими всю суть сложившейся ситуации. Их мнение оказалось единогласным, а принятое решение — единственно возможным. [327] Ebenda.
Отметим в силу изложенного чуть выше, что даже закавыченный кусок речи Конрада не мог являться приказом: формально он, судя по всему, не имел права самолично отдавать приказ об аресте какого-либо полковника — ведь Генштабу подчинялось проведение оперативно-стратегических мероприятий, а не решение всех военных вопросов вообще!
Следовательно, Конрад мог лишь посоветывать своим подчиненным Урбанскому и Ронге действовать так, а не иначе! Другие же участники операции — полиция и судебные органы — и вовсе, повторяем, пребывали вне круга подчинения начальнику Генштаба.
Рассказ о Редле занимает ничтожное место в шеститомных мемуарах фельдмаршала Конрада, опубликованных в 1922 году.
Свидетельство самого Конрада построено по следующей схеме: он подчеркивает, что все случившееся явилось для него крайним потрясением; подтверждает состав участников совещания, называя Урбанского и Ронге не по именам, а по занимаемым ими должностям; отмечает, что существо дела доложил начальник контрразведывательной группы (т. е. Ронге). Этот последний сообщил, что долговременно проводившаяся операция по выявлению неизвестного шпиона принесла неожиданный результат — им оказался полковник Редль. [328] Conrad. Op. cit. S. 329.
Далее, согласно Конраду, события происходили как бы сами собой: Редль был арестован (в этом пункте Конрад прямо противоречит истине) в Вене, подвергнут исчерпывающему допросу, после чего ему была дана возможность покончить с собой, а затем начальник Эвиденцбюро (т. е. Урбанский) выехал вместе с комиссией (Конрад не уточнил, что это за комиссия и из кого состояла) для расследования в Прагу [329] Ebenda.
— и так далее; тут мы заехали в уже более поздние события, к которым, естественно, еще вернемся.
Ниже Конрад подчеркивал, что принятое решение о судьбе Редля встретило позднее понимание и сочувствие у самых авторитетных лиц, в частности — у Хельмута Мольтке-Младшего, начальника Германского Генерального штаба. [330] Ebenda. S. 368.
Много внимания уделил такому же сочувственному пониманию со стороны немцев и Урбанский. [331] Urbanski von Ostrymiecz A. Der Fall Redl. S. 96.
Но никакое и ничье сочувствие, высказываемое к тому же пост фактум , не может служить оправданием и обоснованием принятым решениям!
Да и не было принято никакого юридического решения, поскольку «тройка» не имела права ни арестовать Редля, ни, скорее всего, даже формально его допросить — тот мог потребовать (как это делали наиболее грамотные советские диссиденты!) объяснения: а на каком основании его допрашивают — как свидетеля чего-либо или как подозреваемого в чем-нибудь? И в чем конкретно?
И что тогда должны были бы отвечать ему те, кто собирались его допрашивать, не имея на то необходимых юридических санкций и даже формальных поводов?
Заметим, что и отсутствие фактического допроса при личной встрече Редля с его преследователями (тут мы, конечно, снова немного забегаем вперед) вполне соответствует такой коллизии: допроса не было потому, что его и формально нельзя было осуществить!
В свете всего этого окончательно проясняется, что и само совещание «тройки» не обладало никакими юридическими правами и полномочиями. Оно было в данном случае лишь собранием частных лиц, которые могли принимать какое угодно решение — хоть выслать Редля на Марс или еще подальше! — все равно никто не обязан был выполнять их директивы в сложившейся ситуации.
Вопреки этой-то формальной очевидности они-то фактически и решали, и решили вопрос о жизни и смерти полковника Редля!
Читать дальше