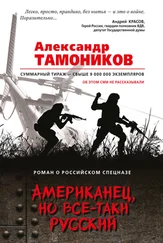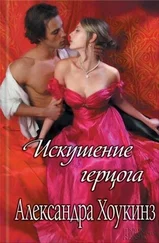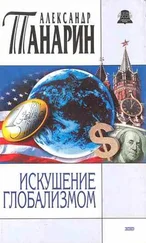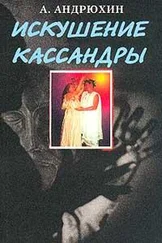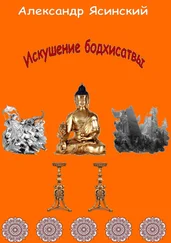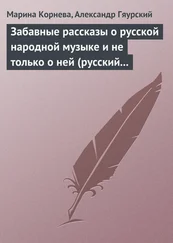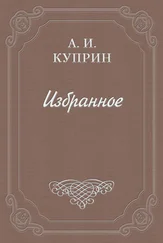Нельзя, конечно, утверждать, что все в «Записках» Екатерины II неверно. Но к содержанию их нужно относиться осторожно, критически, проверяя приводимые в них сведения и сопоставляя разные редакции мемуаров. Вот лишь один, но довольно типичный пример: описание сцены знакомства Екатерины с Петром в 1739 г. В ранней редакции воспоминаний, еще до вступления на престол, Екатерина писала: «Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про одиннадцатилетнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса» [67, с. 6]. Освещение той же сцены решительно меняется в последней редакции «Записок»: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом» [85, с. 11, 23]. Тенденциозный произвол мемуариста до смешного очевиден, бросается в глаза. Но по соображениям, о которых сказано ранее, замечать это было не принято, даже, например, более чем откровенно честолюбивые мечты перед свадьбой: «Сердце не предвещало мне счастья; одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души моей было, не знаю, что-то такое, ни на минуту не оставлявшее меня сомнение, что рано или поздно я добьюсь, что сделаюсь самодержавною русскою императрицей» [67, с. 24]. И подобных признаний в «Записках» Екатерины немало, причем исключительные качества их автора, которые постоянно выпячиваются, должны были резко и в ее пользу контрастировать с полнейшей несостоятельностью ее мужа как политического соперника. Это было настолько очевидно, что даже Д. Ф. Кобеко, отнюдь не восторгавшийся Петром III, выражал сомнение, что тот был умственно неразвит настолько, «чтобы оправдать те отзывы, которые давала о нем впоследствии Екатерина» (81, с. 65). [1] Во многом сходная с нашей аргументация содержится в эссе М. Сокольского «Попранная мечта», с которым автор имел возможность познакомиться, когда эта книга находилась в производстве. См.: Сокольский М . Неверная память. Герои и антигерои России: Историко-полемические эссе. М., 1990. С. 13—111.
Для сравнения отметим, что не менее пристрастна она и к Елизавете Петровне, поскольку, по словам Е. В. Анисимова, «не испытывала теплых чувств» к ней [35, с. 158, 165]. Екатерина оставалась верна себе (это не свидетельства объективного наблюдателя, а откровенное, порой грубое, сведение задним числом счетов со своими соперниками).
Кроме воспоминаний императрицы, для характеристики личных свойств Петра III обычно привлекаются без особой критики записки Е. Р. Дашковой и А. Т. Болотова. Интересные сами по себе, они не менее пристрастны. При чтении их создается впечатление, что и спустя многие годы авторы этих записок настолько ослеплены ненавистью к свергнутому императору, что не замечают явных несообразностей в своем изложении. Вот лишь один пример: обвиняя Петра III в пристрастии к Фридриху II, Е. Р. Дашкова сама отзывается о прусском короле с исключительным пиететом, характеризуя его как «самого великого государя» [59, с. 76].
Недоумение второе, возникающее в этой связи. Почему-то развернутый критический, а главное — сопоставительный анализ текста названных и других источников, исходивших из среды политических и личных противников и недоброжелателей Петра III, остается, как правило, в стороне. А извлекаемые отсюда сведения обычно воспринимаются как истинные, не нуждающиеся в особой проверке. Но ведь давно отмечено, что тот или иной характер оценки Петра III в значительной мере определяется позицией писавших о нем.
Призывая к исторической справедливости, Н. М. Карамзин еще в 1797 г. со страстной запальчивостью заявлял, что «обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость…» [97, с. 126–127]. Сказано, возможно, сильно, но в основе своей верно. Но как раз с критическим анализом привлекаемых источников дворянская и буржуазная историография и публицистика не спешили.
С тех пор в этом смысле мало что изменилось. Почти не учитываются, в частности, социальное положение, круг общения и политическая ориентированность современников, писавших о Петре Федоровиче. Так, Е. Р. Дашкова не скрывала чисто женской неприязни к своему крестному отцу, фавориткой которого была ее родная сестра Елизавета Воронцова. Или А. Т. Болотов. Он, по собственному признанию, еще при жизни императора близко сошелся в Кенигсберге с Г. Г. Орловым, который ласково называл его «Болотенько» [44, с. 214]. Но ведь Г. Г. Орлов не только (как и Дашкова) участник заговора. Он и любовник Екатерины, отец ее сына А. Г. Бобринского, родившегося, кстати сказать, в апреле 1762 г., т. е. за добрых два с половиной месяца до переворота, стоившего Петру жизни.
Читать дальше
![Александр Мыльников Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] обложка книги](/books/28527/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy-cover.webp)