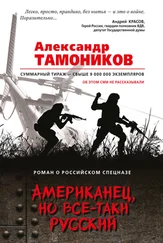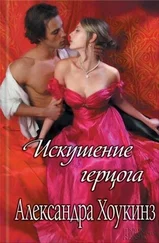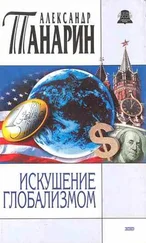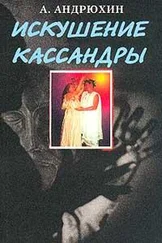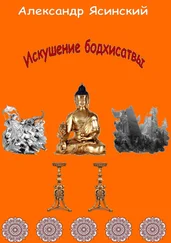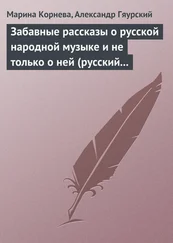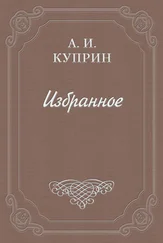Да, поистине велика бывает цена предвзятости, ибо неправда, даже многажды повторенная, все равно никогда не сделается правдой. Зато она способна породить и порождает искажения; в тенеты неправды попадаются ее инспираторы и их доверчивые современники. Нечто похожее произошло с описанием внешности Е. И. Пугачева, выступившего в роли Петра III.
Естественное его обозначение в правительственных актах как «злодея» психологически нуждалось в создании соответствующего образа. Уже в прокламации Оренбургского коменданта И. А. Рейнсдорпа от 30 сентября 1773 г. Пугачев описывался как беглый казак, который «за его злодейства наказан кнутом с поставлением на лице его знаков». Эта фантастическая подробность даже подтверждалась свидетельствами некоего солдата-перебежчика. Неловкая выдумка оказалась нáруку повстанцам: ссылаясь на нее, они доказывали «истинность» Петра III — Пугачева. И сам он, согласно протокольной записи допроса в Яицком городке, вспоминал 16 сентября 1774 г.: «Говорено было, да и письменно знать дано, что бутто я бит кнутом и рваны ноздри. А как оного не было, то сие не только толпе моей разврату не причинило, но еще и уверение вселило, ибо у меня ноздры целы, а потому еще больше верили, что я государь» [64, с. 403; 117, № 4, с. 117]. Как видно, пресловутая стереотипность мышления с сопутствующими образными представлениями сбивала с толку и в этом случае.

Петр III. Портрет кисти А. И. Антропова. 1702 г. Из собрания Загорского историко-художественного музея-заповедника.
Между тем наиболее четкое описание внешности героя легенды и его носителя дал A. С. Пушкин. «Государь Петр III, — писал он, — был дороден, белокур, имел голубые глаза; самозванец был смугл, сухощав, малоросл» [133, т. 9, ч. 1, с. 394].
Но еще более возрастает цена предвзятости, когда речь идет о событиях прошлого. Одно искажение закономерно порождает другое и вот уже возникает дурная цепная реакция, от которой трудно избавиться. Утвердившись, искаженные представления проникают в историческое сознание, порождая устойчивые стереотипы-химеры. И уже современный искусствовед, даже квалифицированный, описывая портрет Петра III кисти замечательного русского художника XVIII в. А. П. Антропова, усмотрит у изображенной на холсте вполне обычной модели «толстый живот на тонких ножках, маленькую голову на узких плечах и длинные руки, тонкие, как паучьи лапки» [77, с. 90]. Зрелище и в самом деле не из приятных, хотя, казалось бы, странно требовать, чтобы на российском престоле непременно восседал Аполлон. Но правильно ли «прочитан» портрет, писавшийся с натуры? Так ли это? Обратимся за ответом к свидетельству современника Петра III, причем отнюдь к нему не расположенного.
Перед нами два словесных описания.
1. Он «производил впечатление человека, который стесняется в обществе, считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся. Он смотрит угрюмо, блуждающим взглядом; в нем нет уверенности в себе; он одет грязно и в его осанке нет благородства» [128, с. 368].
2. «Вид у него вполне военного человека. Он постоянно застегнут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде» [150, с. 194].
И все это об одном человеке — о Петре III? — спросит читатель. Нет, Петру III здесь посвящена только одна из записей. Какая же из них? С точки зрения распространенного стереотипа, — скорее всего, первая. Здесь, казалось бы, все отвечает расхожим представлениям о безвольном и неспособном монархе. И стесненность в поведении, и блуждающий взгляд, и неуверенность в себе, и неряшливость в одежде. Но нет! Вовсе не о Петре III, муже своей возлюбленной, писал польский король Станислав Август Понятовский (в конце 1750-х гг. он еще не занимал престола, жил в Петербурге, был вхож ко двору и состоял в интимных отношениях с Екатериной, тогда еще великой княжной. Их дочь Анна, родившаяся в 1757 г., но вскоре, в 1759 г., умершая, получила ранг принцессы, считаясь официально дочерью наследника трона Петра Федоровича), а о «короле-солдате» Фридрихе II Прусском! Зато Ж. Л. Фавье, секретарь французского посланника в Петербурге, действительно описывал Петра Федоровича, тогда еще великого князя (дело происходило незадолго до его вступления на престол, в 1761 г.).
Наблюдения Фавье над внешним видом последнего косвенно подтверждаются результатами организованной нами с участием специалистов ленинградского Дома моделей экспертизы одежды из фондов Государственного Эрмитажа (Ленинград) и Государственного исторического музея (Москва), предположительно принадлежавшей Петру III в последний период его жизни. Ведущий конструктор В. Н. Кудряшов выполнил в апреле 1986 г. контрольные обмеры эрмитажного мундира в сопоставлении со сведениями, ранее полученными из ГИМ, и с учетом поправок на внешние факторы (усадка материала, особенности моды и манеры ношения одежды в 50—60-е гг. XVIII в., личные привычки императора и т. п.) и пришел к следующим выводам. Внук Петра Великого, подобно своему деду, был узок в плечах, ростом около 170 см. По современным стандартам его костюм соответствовал бы приблизительно 44–46 размеру, третья полнота. Треуголка Петра III из Военно-исторического музея А. В. Суворова в г. Кобрин (Брестская обл. БССР) имеет по внутреннему ободку 57 см. Судя по обмеру треуголки из ГИМ, окружность головы Петра III составляла около 60 см.
Читать дальше
![Александр Мыльников Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] обложка книги](/books/28527/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy-cover.webp)