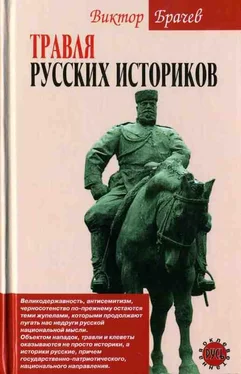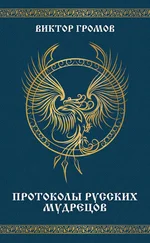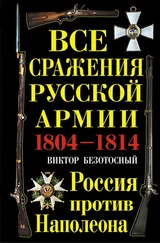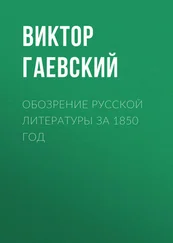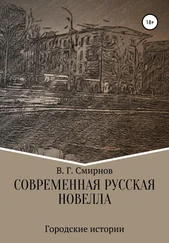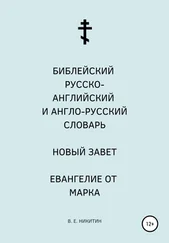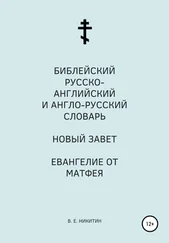Грозная опасность, нависшая в связи с революционными событиями 1917 г. над архивными и культурными ценностями, побудила С. Ф. Платонова не только вернуться к активной административной деятельности, но и подвигла его на, в общем-то, неординарный шаг: в мае 1917 г. он неожиданно вступает в Лигу русской культуры П. Б. Струве {37} 37 Лига русской культуры. Пг., 1917. С. 4–5.
.
По замыслу ее организаторов, Лига должна была объединить вокруг себя «все общественные слои, дорожащие традициями русской духовной культуры» и в «противовес разлагающему влиянию антипатриотических и интернационалистических идей» сыграть роль оплота национального возрождения. Сам П. Б. Струве шутя говорил, что Лига русской культуры есть в иностранных словах выраженное понятие «Союза русского народа». «В этой шутке, — отмечал С. Л. Франк, — содержалась горькая мысль, что в старой России патриотизм и национальное сознание стали монополией демагогических реакционных кругов — тогда как сами носители русской культуры и освободительных идей его чуждались» {38} 38 Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 116.
.
«Русской культуре, — отмечал в июне 1917 г. В. Шульгин, — грозит в настоящее время серьезная опасность. Ненависть ко всему, что связано с прошлым, в революционное время сильна. Ведь сейчас люди, которые желают выслужиться перед толпой, поносят не только вчерашних владык, они поносят всю русскую историю» {39} 39 Лига русской культуры. Пг., 1917. С. 9.
.
«Вещи, — вторит ему П. Б. Струве, — следует безбоязненно называть своими именами: мы переживаем неслыханный в мировой истории кризис идеи науки и государства, и место, где разыгрывается эта бесовская трагедия национально-государственного отступничества, — есть душа русского народа». В результате «тяжелых испытаний», выпавших на его долю «в наши дни», в «широких народных массах оказался утраченным тот здоровый патриотический инстинкт, без которого невозможно ни нормальное международное бытие народа, ни здоровая внутренняя жизнь государства» {40} 40 Там же. С. 7.
.
Несомненно, что присущее инициатору Лиги критическое мировоззрение, основывающееся «не на каких-то партийных принципах, но только на заботе о конкретной судьбе России…» {41} 41 Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 221.
и присущий П. Б. Струве «либеральный консерватизм», в результате чего он «одинаково ценил» и «свободу человеческой личности и мощь организованного в государство народа» {42} 42 Полторацкий Н. П. П. Б. Струве как политический мыслитель. Лондон; Торонто: Заря, 1981. С. 54.
, импонировали С. Ф. Платонову и были созвучны его собственному мировоззрению историка-государственника, прямо писавшего в 1918 г. о «мраке нашей современности» и ужасах «того распада, который сводит на нет плоды векового народного труда» {43} 43 Ежемесячный журнал. 1918. № 2–3. С. 208.
.
В пореформенный период, благодаря широкому распространению образования в народе, интеллигенция теряет свой исключительно дворянский характер. В условиях сознательного отстранения ее от общественных и государственных дел русская интеллигенция, отмечал он, «привыкла к осуждению правительственных порядков и взглядов и, следуя космополитическим убеждениям западников, стала переносить свое отрицание современной политической системы на особенности русской жизни вообще. Отсюда было уже недалеко до утраты того горячего патриотического чувства, которым была богата и сильна старая Русь и которым сравнительно стали бедны ближайшие к нам поколения интеллигенции» {44} 44 Платонов С. Ф. Учебник. Курс русской истории. СПб., 1910. 4. 2. С. 201.
.
«В период Февральской революции и Временного правительства, — показывал С. Ф. Платонов на допросе от 31 января 1930 г., — стало совершенно для меня, Дружинина, Чечулина (историк — умер) и других ясно, что слова Дурново из его записки: «Раз началась революция, дойдет до торжества крайних партий», сбываются. Такая точка зрения была и среди других ученых кругов. Неспособность к твердой власти Временного правительства, общее положение страны — наличие фронтов, демократизация (фактическая) армии и проблема социальной революции при полной неподготовленности нашей страны — вопросы ставит прямо и конкретно. Все мы, т. е. я и мои единомышленники, считали необходимостью конституционного строя во главе с твердой властью, которая одна только и может спасти страну…» {45} 45 Академическое дело, 1929–1931 гг. СПб., 1993. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. С. 43.
«Народную бурю, — считал С. Ф. Платонов, — надобно выдерживать, как выдерживают здоровые листы на крепком стебле» (письмо С. Д. Шереметеву от 21 августа 1917 г.) {46} 46 С. Ф. Платонов. Переписка с историками в 2 томах. Т. 1. Письма С. Ф. Платонова (1883–1930). М., 2003. С. 230.
.
Читать дальше