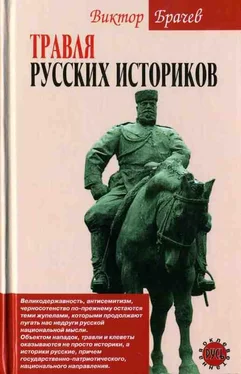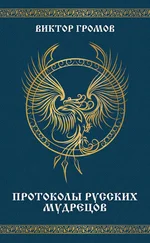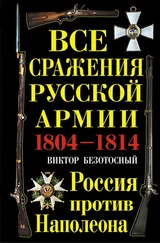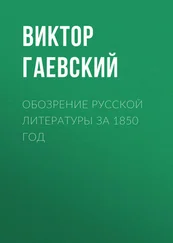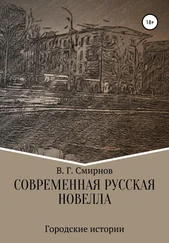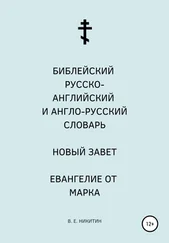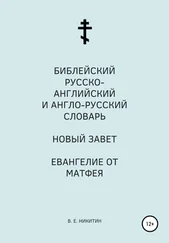По линии выявления церковных контактов С. Ф. Платонова и его «группы» были проведены аресты среди ленинградских священнослужителей. 8 июля 1930 года были арестованы священник Крестовоздвиженской церкви в Ленинграде А. В. Митроцкий и священник Покровско-Коломенской церкви Н. В. Чепурин. В сентябре-декабре 1930 года — священники Русской православной церкви: А. А. Алашев, Ф. И. Знаменский, М. Г. Митроцкий, П. П. Аникиев, пастор-проповедник лютеранской церкви Св. Екатерины А. Ф. Фришфельд, священник-старообрядец И. П. Астанин {158} 158 Архив ФСБ РФ по С.-Петербургу и Ленинградской области. № 12658. Т.8. Л. 21–24.
.
Что касается С. Ф. Платонова, то следует признать, что по настоящему за него взялись только с 11 августа 1930 г., когда всего за 20 дней он допрашивался 10 раз, т. е. ровно столько, сколько за предшествующие 4 месяца. К этому времени у следователей было уже достаточно показаний, полученных от Е. В. Тарле, Н. В. Измайлова и др. подследственных, вполне «доказывающих» как сам факт «контрреволюционной» организации, так и первенствующую роль в ней С. Ф. Платонова.
9 августа 1930 г. состоялась очная ставка С. Ф. Платонова с бывшим библиотекарем БАН А. А. Петровым, который утверждал, что еще осенью 1928 г. Н. В. Измайлов якобы вовлек его в некую монархическую организацию в Академии наук во главе с С. Ф. Платоновым. Организация, показывал А. А. Петров, ставила своей целью «свержение советской власти» и возведение на престол великого князя Андрея Владимировича. Более того, как следовало из показаний А. А. Петрова, по поручению С. Ф. Платонова ему даже пришлось передать некий пакет в польское консульство. С. Ф. Платонов, разумеется, все эти домыслы категорически отрицал. К счастью для него, никогда не бывавший ни в одном из иностранных консульств бедный библиотекарь настаивал на том, что польское консульство, которое он посетил по заданию С. Ф. Платонова, располагалось по адресу: пр. 25 Октября (Невский пр.), д. № 8, в то время как на самом деле оно располагалось совсем по другому адресу (по улице Рошаля), на что справедливо и указал С. Ф. Платонов {159} 159 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 91–94.
. Организованная следователями провокация, таким образом, неожиданно провалилась.
Тем не менее для С. Ф. Платонова наступили плохие времена. Правда, 11 августа в своих собственноручных показаниях он еще старался «держать удар» и энергично отрицал какие-либо переговоры по политическим или организационным вопросам с деятелями русской эмиграции. Категорически отверг он и обвинения в приверженности идеям интервенции в СССР иностранных государств с целью изменения здесь общественного строя. Никакой контрреволюционной организации под его руководством в Академии наук никогда не существовало, утверждал он, и речь может идти всего лишь о небольшом кружке единомышленников.
Поскольку следствие настаивало, что в своих предыдущих показаниях С. Ф. Платонов уже якобы признал, что вел борьбу с существующим советским порядком, ученый вынужден был пояснить, что он отнюдь не имел в виду политическую борьбу. «Единство настроения и работа в ученых кружках — это единственные элементы борьбы мне в этом деле известные, — заявил он. — Ни в чем другом борьба моя против советской власти не выражалась. Только в период «чистки» Академии (1929) я решительно боролся против внедрения в Академию наук на службу лиц, выдвигаемых общественностью, но не соответствующих делу ни знаниями, ни личными свойствами. Других форм борьбы за собой не ведаю» {160} 160 Собственноручные показания С. Ф. Платонова 11 августа 1930 г. // Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 97.
.
Однако уже на допросе от 12 августа С. Ф. Платонов неожиданно «сломался» и согласился признать, что в конце 1927 г. у него и у его друзей-единомышленников (Е. В. Тарле, Н. П. Лихачева, С. В. Рождественского, А. И. Андреева, Н. В. Измайлова) возникла мысль о необходимости придания их встречам «характера организованности». Состоялось несколько совещаний, на которых присутствовал специально приезжавший для этого из Москвы академик М. М. Богословский. В результате весной 1928 г. вопрос этот якобы был решен положительно, и организация, получившая название «Всенародный Союз за возрождение свободной России», была создана {161} 161 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 100.
.
Читать дальше