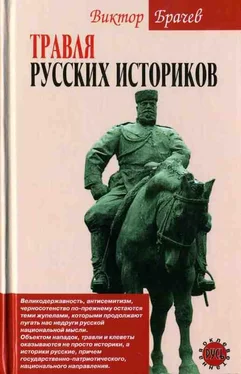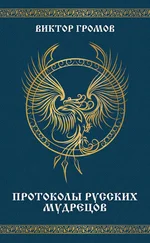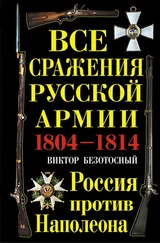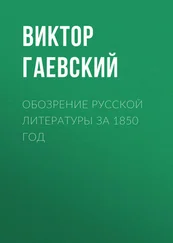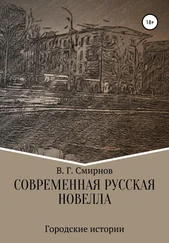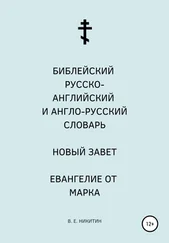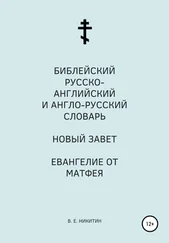Не могу отступить от этих показаний, единственно истинных, под страхом ни ссылки, ни изгнания, ни даже смерти.
Не могу объяснить, ни самому себе представить, кто и зачем привязал меня к этому делу и орудовал моим именем. Может быть, рассчитывали на то, что мой личный авторитет и звание академика могут, с одной стороны, влиять на вербовку членов и успех дела, а с другой стороны, дадут ему иммунитет. Не думаю, чтобы кто бы то ни было хотел «погубить» меня, впутав в это дело, так как личных ненавистников не знаю и не предполагаю» {152} 152 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 59–63.
.
Явное нежелание С. Ф. Платонова, говоря языком тогдашних огэпэушников, «расконспирироваться» привело к тому, что следователи поневоле были вынуждены временно переключиться на других, более сговорчивых и покладистых, подследственных, и в первую очередь на академика Е. В. Тарле. То, что это было именно так видно, как говорится, и невооруженным глазом. Так, в мае 1930 г. следствие побеспокоило С. Ф. Платонова своими вопросами всего два раза: 3 и 19 числа. Речь на них шла о его контактах с немецкими учеными и великим князем Андреем Владимировичем, причем С. Ф. Платонов подчеркнул, что никакого обсуждения в его кругу «вопроса о претендентах на престол не было. Мог быть только простой разговор» {153} 153 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 77.
.
Такая же картина наблюдается и в июне, когда С. Ф. Платонов был допрошен всего три раза: 6, 26 и 30 числа. В результате следствию удалось получить новые признания С. Ф. Платонова в своем монархизме («по политическим убеждениям я являлся монархистом») и германофильстве («я являлся в прошлом и являюсь в настоящем и будущем сторонником германской ориентации для нашей страны») {154} 154 Собственноручные показания С. Ф. Платонова 26 июня 1930 г. // Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 82.
. Важное значение имело в глазах следствия и признание С. Ф. Платонова в том, что в его кружке действительно мог иметь место некий разговор «о необходимости и стремлении к борьбе с большевиками под лозунгом «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России» {155} 155 Там же. С 84.
.
Конечно же, от признания факта разговора о необходимости лозунга борьбы за возрождение свободной России до признания факта существования некоей контрреволюционной организации под таким же названием еще было далеко, но лед, как говорится, уже тронулся.
Допросы С. Ф. Платонова 4 и 11 июля ничего существенного к ранее им сказанному не прибавили, после чего вплоть до 9 августа, т. е. почти месяц, его никто не беспокоил. Очевидно, что следствие было занято работой с другими подследственными. Следует иметь в виду, что круг арестованных к этому времени пополнился новыми лицами.
Важной вехой в фабрикации «дела академиков» явились аресты в феврале 1930 года целого ряда видных деятелей Центрального бюро краеведения РСФСР: Б. Б. Веселовского, Д. О. Святского, С. И. Тхоржевского, М. П. Бабенчикова, М. Н. Смирнова и др., и его филиалов на местах {156} 156 Акинышин А. Н. Судьба краеведов (конец 20-х — начало 30-х гг.) // Вопросы истории. 1992. № 6–7. С. 176
. Это давало следствию возможность представить «Всенародный союз борьбы за возрождение свободной России» как крупную силу с разбросанными по всей стране первичными организациями.
Следует иметь в виду, что краеведческое движение в 1920-е гг. носило в нашей стране массовый характер. Одних только местных организаций насчитывалось до двух тысяч с 50 тыс. активистов. Еще в 1921 г. краеведы объединились в Центральное бюро краеведения при Академии наук во главе с С. Ф. Ольденбургом. «На краеведов и экскурсоводов с ними связанных, — показывал в 1931 г. в ходе следствия Е. В. Тарле, — Платонов, Богословский и Рождественский смотрели как на одно из средств по «воскрешению национального духа», в исчезновении которого они видели причину всех зол. Сам Платонов ездил на Мурман и собирался вообще встать близко к изучению Севера» {157} 157 Академическое дело 1929–1931 гг. Вып. 2. Ч. 1. Дело по обвинению академика Е. В. Тарле. СПб., 1998. С. 215
. Определилось в конце концов следствие и по вопросу о том, как же все-таки быть со связанными с С. Ф. Платоновым московскими историками круга М. М. Богословского.
В ночь с 9 на 10 августа 1930 года были арестованы профессора Московского университета академик М. К. Любавский, члены-корреспонденты АН СССР Ю. В. Готье и Д. Н. Егоров, профессор С. К. Богоявленский, 12 августа арестовали члена-корреспондента АН СССР, профессора МГУ А. И. Яковлева, 18 августа профессора С. В. Бахрушина, 14 сентября — белорусского академика профессора В. И. Пичету. Из нового, уже советского поколения историков в 1930 году в Москве были арестованы И. А. Голубцов и Л. В. Черепнин. Сразу же после ареста ученые доставлялись в Ленинград, где подвергались усиленным допросам. Так, благодаря стараниям следователей Ленинградского ОГПУ, «дело» С. Ф. Платонова и его коллег переросло региональный ленинградский характер и стало приобретать зловещие черты крупномасштабного контрреволюционного заговора…
Читать дальше