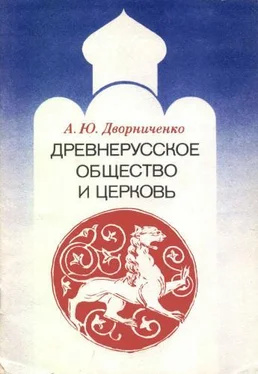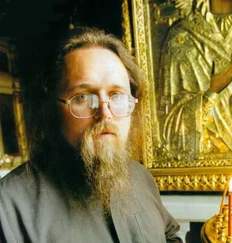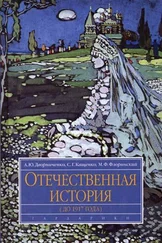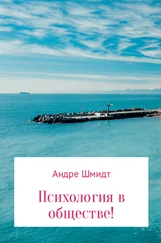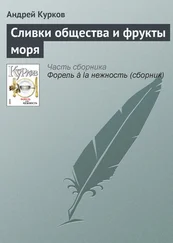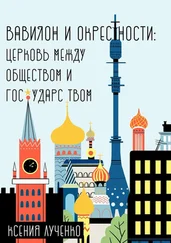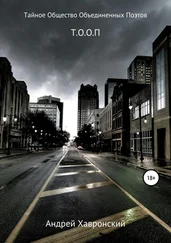Социально-политическая роль церкви определялась не столько гибкостью христианской церкви, сколько языческим восприятием церковной организации. Элементы ее, преломляясь сквозь толщу языческих традиций, постепенно входили в традиционную картину мира древнерусского населения. Одним из существенных атрибутов мировоззрения восточных славян был комплекс представлений о городе. Город тех времен — это пространство, огороженное стеной или линией укреплений. Городским укреплениям в древних обществах придавалось большое сакраментальное (священное) значение. Освящение городской стены берет свое начало от ограды, которая окружала славянские языческие капища. После введения христианства такого рода представления перешли и на христианские святыни, строившиеся, как правило, на месте языческих культовых мест. Так, в Киеве Десятинную церковь построили на месте древнего культового сооружения. Считается, что и первая московская церковь построена на месте дохристианского жертвенника. При таком восприятии городской стены особое значение приобретали ворота, по существу — разрывы в той границе, которая окружала город. Ворота «городовых» стен не только символ их неприступности, но и носители важного сакраментального содержания. Они были священными местами, имевшими своих покровителей среди божеств. Вот почему на воротах часто возводились надвратные церкви. Святой, которому посвящалась церковь, был покровителем и охранителем ворот. Это явное продолжение языческих традиций, уходящих корнями в мир языческих богов.
Сакраментальную нагрузку несла на себе не только городская стена, но и другие элементы городской структуры. Такую функцию часто выполнял детинец — древнерусский кремль, находившийся на возвышенности. Здесь старались воздвигнуть и наиболее значимую точку города — храм как главную городскую святыню. Главный храм города был не княжеским, а вечевым святилищем. Возле него обычно собиралось вече, в нем хранились важные для города эталоны мер и веса, городская казна. Такой храм являлся религиозным центром города и всей городской волости, города-государства. «Не будет Новый Торг под Новгородом, ни Новгород под Торжком; нъ где святая София, ту и Новгород», — говорили, например, о своем храме новгородцы. Именно этим объясняется парадоксальный с точки зрения христианства факт — стремление разрушить храм противника: это, безусловно, вещь вопиющая и безмерно греховная. Однако И. Я. Фроянов отмечает, что «тут есть и своя логика: разрушить храм врага — значит лишить его покрова божьего. Вот почему киевляне готовы были умереть за свою святую Софию, новгородцы за свою святую Софию, владимирцы за свою святую Богородицу и т. п. Это и естественно, ибо, где святыня, там и город — сердце городовой волости-государства». Христианство подверглось языческому переосмыслению. Как у восточнославянских племен существовали их родовые святилища, так и в древнерусский период религиозными святынями стали местные волостные храмы. Понятие общерусской, а тем более вселенской церкви на Руси в ту пору отсутствовало.
Похожим образом обстоит дело и с христианскими святыми. Культ христианских святых формировался двояко. С одной стороны, наблюдалась трансформация языческих богов в христианских святых. Так, Велес превращается в святого Власия, Перун в святого Илью, а Мокошь в Параскеву Пятницу. Языческие требы совершались теперь перед христианскими святыми. Поклонение иконе, на которой был изображен какой-либо святой, являлось ни чем иным, как сохранением языческих культов, богов и фетишей. Икона была общераспространенным объектом домашнего и личного культа, ей воссылают молитвы, подносят дары, от нее ждут великих и богатых милостей. Отголоски идолопоклонного политеизма видны и в том, что и в доме и в приходской церкви у каждого была своя икона. Икона — это наиболее близкий, домашний бог, личный фетиш. Народ называл икону просто богом. Если же икона не помогала владельцу, то он считал себя вправе расправиться с ней: икону бросали в огонь, разрубали. Эти действия напоминают обращение язычников со своими идолами. Недаром у русского народа сохранилась пословица: «Боженьку за ноженьку, да об пол».
С другой стороны — христианский пантеон формировался по образцу языческих пантеонов, только вместо племенных богов в него входили возведенные в ранг святых, церковники и князья, «И каяждо убо страна и град блажит и славит и похваляет своих чудотворцев», — гласит рукописное житие Прокопия Устюжского.
Читать дальше