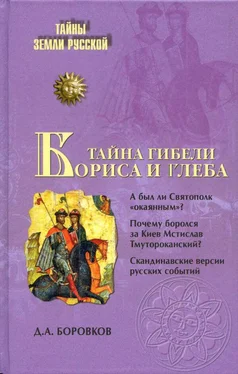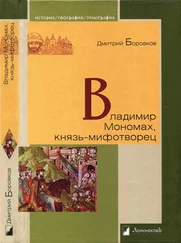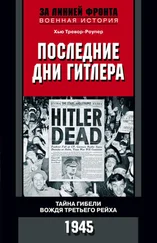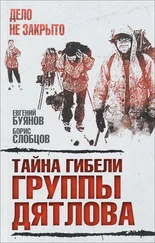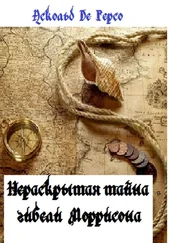По нашему мнению, появление столь ранних датировок является следствием неправильной интерпретации текста, при которой упор делается на летописную дату окончательного вокняжения Ярослава на киевском «столе» — 1019 г., в то время как автор «Анонимного сказания» говорит о принятии Ярославом «всей волости Русской», которая до 1036 г. была разделена между Ярославом и Мстиславом, поэтому захоронение князей-мучеников в вышегородской церкви могло произойти самое раннее в конце 1030-х гг. Эта точка зрения была сформулирована Л. Мюллером, считавшим, что «лишь после 1036 г., т. е. после смерти князя Мстислава, Ярослав стал „самовластцем“ на Руси. Лишь теперь он мог совершенно свободно проводить свою политику, в том числе и церковную. То, что он начал ее с канонизации своих братьев, вполне отвечало общей линии его политической и церковной программы» {279} 279 Мюллер 1995. С. 11. Прим. 24.
.
По сюжету «Сказания о чудесах» Бориса и Глеба, местонахождение их могил у церкви Св. Василия в Вышегороде не было известно до тех пор, пока один варяг случайно не ступил на это место и не поплатился за это ожогом ног. Вскоре после этого церковь Св. Василия сгорела, однако прихожанам удалось спасти от пожара всю церковную утварь, — по мнению составителя «Сказания чудес», благодаря заступничеству Бориса и Глеба. О вышегородских эксцессах было доложено Ярославу, который поставил в известность митрополита Иоанна, организовавшего крестный ход в Вышегород и строительство церкви, где были перезахоронены Борис и Глеб. Чудеса продолжались, и об этом вновь донесли князю. «Князь же Ярослав, услышав, прославил Бога и святых мучеников и, призвав митрополита, с радостью рассказал ему об этом. Митрополит же вознес хвалу Богу и подал князю богоугодный совет, чтобы тот воздвиг церковь прекрасную и честную. И понравился князю совет его, и воздвиг он церковь большую, с пятью главами, и расписали ее всю и украсили всевозможными украшениями. И митрополит Иоанн, князь Ярослав и все духовенство и люди пошли крестным ходом и освятили церковь. И установили праздновать праздник двадцать четвертого июля, в тот день, когда был убит преблаженный Борис. В этот же день и церковь была освящена и перенесены святые <���…>.
И когда еще были в церкви на святой Литургии князь и митрополит, оказался здесь же хромой человек — пришел он, едва ползая, и, войдя в церковь, помолился Богу и святым. И сразу окрепли ноги его по благодати Божьей и по молитве святых, и, поднявшись, стал ходить на виду у всех. И это чудо видели сам благоверный князь Ярослав и митрополит. И все люди вознесли хвалу Богу и святым.
И после Литургии позвал князь всех на обед и митрополита и духовенство, и праздновали праздник как подобает. И много подаяний было роздано нищим, и беднякам, и вдовам» {280} 280 Абрамович 1916. С. 53–54. Милютенко 2006. С. 323, 325.
.
Как мы имели возможность убедиться, место захоронения страстотерпцев не составляло тайны ни для составителя повести «Об убиении Борисове», знавшего о погребении Бориса его убийцами у церкви Св. Василия, ни для составителя «Анонимного сказания», сообщившего о перезахоронении в Вышегороде Глеба. Вряд ли можно думать, что на протяжении двух-трех десятилетий эти события изгладились в памяти современников: очевидно, о них предпочел забыть лишь вышегородский клир, поскольку эти захоронения были предприняты по инициативе светской власти и не вписывались в традиционные представления. Подобное расхождение представлений может быть обусловлено тем, что «Анонимное сказание» и «Сказание о чудесах» отражали противоположные тенденции. «Анонимное сказание», несмотря на подражание идеологическим константам агиографии, не считалось каноническим и, очевидно, было призвано сформировать представления, выгодные княжеской власти, в то время как «Сказание о чудесах» отражало церковную точку зрения.
Разумеется, к свидетельствам агиографических текстов следует относиться с определенной долей скептицизма. Нельзя отрицать, что описание вышегородских церемоний при Ярославе сконструировано по той же «этикетной» модели, что и аналогичные описания в ПВЛ под 1072 и 1115 гг. Однако исходя из одного только молчания летописей о почитании Бориса и Глеба в годы правления Ярослава вряд ли правомерно утверждать, что князь не был заинтересован в становлении культа братьев-мучеников, — как думают некоторые исследователи, из-за того, что он выражал принцип «феодального вассалитета», нарушенный им в 1015 г. и, следовательно, перенесение им мощей убитых братьев — агиографический миф, созданный в 70-х гг. XI в. (А. С. Хорошев) {281} 281 Хорошев 1986. С. 17–23.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу