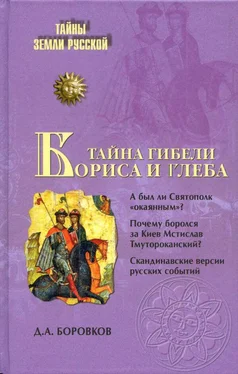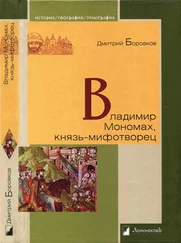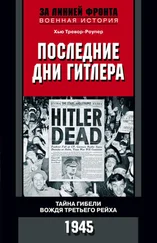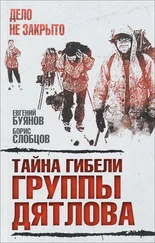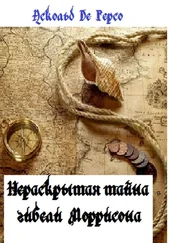Нельзя думать, что почитание князей-мучеников началось лишь в последней четверти XI в., после того, как Ярославичи организовали в 1072 г. новое перезахоронение мощей Бориса и Глеба: скорее всего, эта церемония, описанная в «Сказании о чудесах» и в ПВЛ, завершала начальный этап формирования культа. Уже не один десяток лет ученые спорят о том, были ли его истоки династическими или народными {282} 282 Алешковский 1971. С. 86–92. Поппэ 1973. Парамонова 2003. С. 242–245. Милютенко 2006. С. 43–44.
. Представление об элитарном происхождении базируется на свидетельствах интенсивной его пропаганды княжеской властью во второй половине XI — начале XII в., тогда как представление о народном происхождении восходит к памятникам агиографической литературы.
Если обратить внимание на аналоги Борисоглебского культа, возникшие в Центральной Европе, становится очевидно, что в церковной истории славянских государств, христианизированных в X столетии, присутствует общая тенденция, выраженная в том, что культ святых, как правило, формировался из представителей местной аристократической элиты. «Важнейшей причиной возникновения такого культа было стремление найти особое место своего государства и своего народа в христианском мире. В сонме святых из разных христианских стран, окружавших трон Христа, было психологически, важно приобрести „своего“ представителя перед богом. Само появление такого культа было свидетельством силы и крепости новой религии в стране перед лицом христианских соседей», — считают А. И. Рогов и Б. Н. Флоря {283} 283 Рогов, Флоря 1991. С. 212.
.

В контексте этого становится понятной проблема причисления к лику святых Владимира Святославича, актуальная и для Илариона в «Слове о Законе и Благодати», и для Иакова-«мниха» в «Памяти и похвале князю Владимиру». Даже канонизация крупнейших религиозных авторитетов своего времени, таких как пражский епископ Войтех-Адальберт или Феодосий Печерский, проводилась во вторую очередь. Согласно наблюдениям Дж. Ревелли, осуществившей типологический анализ Святовацлавского и Борисоглебского культов, «ив богемской и в киевской среде первые национальные святые были членами царствующей семьи» {284} 284 Ревелли 1998. С. 83.
.
Однако подобное положение дел противоречило агиографической традиции: культ святого формально не мог быть установлен светской властью, поэтому в памятниках агиографии его становление представлено как результат совместной мученика засвидетельствована его посмертными чудесами. И в легендах о Вацлаве-Вячеславе, и в «Сказании о чудесах», и в «Чтении» Нестора формирование культа идет по стратам средневекового общества снизу вверх: от простого народа — к князю и духовенству. Поэтому нельзя игнорировать то обстоятельство, что представление о народном происхождении культа князей-мучеников в действительности является традиционным агиографическим клише.
Культ Бориса и Глеба начал складываться как инструмент династической политики. Для доказательства этого утверждения обратимся к изучению антропонимической традиции, которая позволяет как бы «изнутри» взглянуть на политическую культуру Древней Руси.

Как считают А. Ф. Литвина и Ф. Б. Успенский: «Одним из главных принципов, которым руководствовались, выбирая имя, было наречение в честь умершего предка, чаще всего в честь предка по мужской линии. И у живых, и у умерших родичей в этой процедуре была своя функция. Живущий предок выбирал, кто из умерших станет своеобразным прототипом ребенка и, соответственно, чье имя он получит. Роли живых и умерших при выборе имени ни в коем случае не смешивались — существовал строгий запрет на наречение именем отца, если тот был еще жив. У княжича связь с отцом присутствовала уже в его именовании по отчеству, а совпадение имен и отчеств у дальнего предка и потомка делало их постулируемое подобие еще более наглядным. Иногда, впрочем, ребенок по тем или иным причинам мог получить имя из рода матери, а порой у князя могло быть два родовых имени — с отцовской и материнской стороны. В редких случаях имя могло прийти „извне“, от побратима, покровителя рода и т. п., но это было скорее исключением, нежели обычаем.
В русской княжеской традиции домонгольского периода не встречаются случаи совпадения мирских имен у живых родных братьев. Однако никакого запрета на совпадение имен у двоюродных братьев, а тем более у дальних родичей, принадлежащих к одному поколению, в княжеском обиходе не существовало. Напротив, имя умершего предка очень часто давалось нескольким представителям одного поколения его потомков.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу