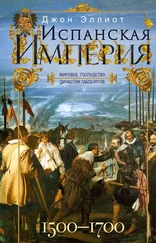Внутри страны действенная поддержка юнионистам исходила главным образом от нового среднего класса, который в годы хамидовского режима также увеличился. Более того, она подкреплялась теми массами турецкого населения, в которых юнионисты породили чувство причастности к политике. Их правительство было гражданским, обратившим серьезное внимание на человека с улицы, как это в прошлом делала религиозная власть, мобилизуя городское население на массовые митинги и организованные демонстрации в поддержку своей политики.
Но во всем этом не было ни малейшего намека на перемены к прямой выгоде для самих масс. Революционеры-младотурки, однажды обзаведясь волшебным талисманом конституции, думали не о новом социальном порядке или ликвидации прежних институтов, а об адаптации и сохранению тех, которые уже существовали и служили источником их политической власти. В отличие от новых османов и реформаторов Танзимата они были больше эмпириками, чем идеологами, в политике и методах. По существу, люди действия, имея в своих рядах лишь немногих теоретиков или интеллектуалов, они мало заботились о фундаментальных принципах и конечных целях. Их больше интересовала непосредственная задача спасения любой ценой того, что оставалось от империи.
По-прежнему оставался без ответа вопрос: какая идея стоит за ее спасением? Что сейчас представляет собой Османская империя? К какой цивилизации теперь будут принадлежать турки, начиная с этого поворотного момента в истории? К исламской, западной или к некоему слиянию обеих? Концепция османизма — союза элементов национальности, языка и вероисповедания, на которой империя основывалась в течение пяти веков, теперь устарела и, за исключением самых далеких азиатских провинций, была обречена. Концепция панисламизма, развившаяся из попытки Абдул Хамида создать азиатское единство, оказалась немногим более чем абстракцией, которая в реальности так и не воплотилась в жизнь. Тогда чему турки должны были хранить верность?
Ответ определенно должен был заключаться в новой концепции турецкой нации, отличной от Османского государства и исламской религии, составной частью которой она тем не менее оставалась. Когда балканские народы объединились в нации, турки, вслед за ними, развили собственное чувство национальной принадлежности, ища единство в выражении своей исторической и культурной идентичности как народа. С конца XIX века их вдохновлял в этом поиске молодой турецкий поэт Мехмед Эмин. Он писал привычным, доступным языком, стараясь вложить новое чувство достоинства и гордость в слово «турок», до этого ассоциировавшееся с грубым, невежественным созданием, кочевником или крестьянином. Мехмед Эмин с гордостью провозгласил: «Я турок! Моя вера и моя нация сильны». И еще: «Мы турки! С этой кровью и этим именем мы живем».
Такие поэтические откровения сочетались с новой европейской наукой тюркологией, которая пробуждала в турках осознание своей роли в человеческой истории, начиная с эпохи их доисламской миграции по азиатским степям. Это подчеркивало туранийское, или туро-арийское, происхождение народа. Такие представления уводили слишком далеко в область абстракций через иллюзорную концепцию пантуранизма. Она подпитывала мечты о единстве через этническое родство и конечную политическую общность между всеми тюркоговорящими народами, не только в Центральной Азии до Монголии и Китая, но и в России и Европе — в Венгрии и родственных государствах.
В сознании младотурок укоренилась более реалистичная и ограниченная концепция пантюркизма или просто тюркизма. Она настаивала на фактическом тюркизме всего, что осталось от Османской империи. Изначально ограниченная культурным и социальным аспектом, но постепенно включившая и политику, она насаждалась влиятельными периодическими изданиями турецких обществ, а также образованными в 1912 году неполитическими клубами, названными «Турецкие очаги». Целью этих клубов было «продвижение национального образования и подъем научного, социального и экономического уровня турок, самого передового народа ислама, и стремление к улучшению турецкой нации и языка».
Между тем с течением времени появились и стали нарастать разногласия как в рядах доминирующей группы Комитета единения и прогресса, так и за ее пределами. Но только к 1911 году серьезная оппозиционная партия начала представлять угрозу для него. Названная Новой партией и склонная к консервативным взглядам, эта группировка открыто критиковала конституционные процедуры комитета, его социальный и политический курс. Она выдвинула требования, в которых настаивала на сохранении в конституционных рамках «исторических османских традиций»; на внесении поправок в некоторые статьи конституции, чтобы усилить «священные права халифата и султаната». Одновременно, хотя и сохраняя «религиозную и национальную этику и мораль», Новая партия требовала увеличения использования в империи «достижений и продуктов западной цивилизации». В стране, по утверждению одного из ее лидеров, существовали три тенденции: реакционный фанатизм, сверхбыстрый прогресс и культурный прогресс, сравнимый с сохранением существующих обычаев и традиций. Именно последнего требовала новая группировка. Эти разногласия, а также идеи других групп диссидентов были обсуждены — не без накала — на партийном съезде — последнем из проведенных в Салониках. Его резолюции свелись к малоэффективному компромиссу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Джон Бальфур Османская империя [Шесть столетий от возвышения до упадка, XIV–ХХ вв.] обложка книги](/books/26739/dzhon-balfur-osmanskaya-imperiya-shest-stoletij-ot-cover.webp)
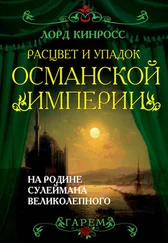
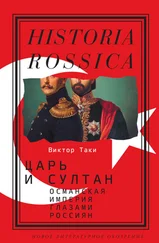
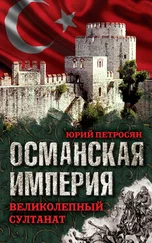
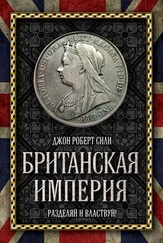
![Джон Беркли - Крепкий орешек II. Шесть дней Кондора [сборник]](/books/98892/dzhon-berkli-krepkij-oreshek-ii-shest-dnej-kondora-thumb.webp)
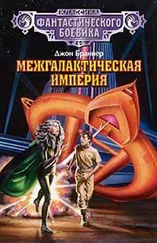

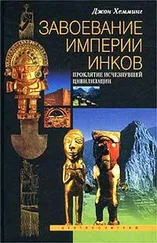

![Джон Скальци - Крушение империи [litres]](/books/413179/dzhon-skalci-krushenie-imperii-litres-thumb.webp)