Но пока приглянувшаяся сначала драгунам, потом генералу Бауэру, а затем и самому фельдмаршалу Шереметеву Марта стирала белье своим новым господам, ее будущий супруг отправился в Архангельск отражать очередное нападение неприятеля. Слух оказался ложным. Убедившись в безопасности города, Петр решил приступить к тому, о чем давно мечтал, — к освобождению тех «отчин и дедин» по реке Неве и Финскому заливу, которые в начале XVII века шведы отвоевали у Московского государства. Решено было занять крепости, контролирующие полноводную Неву, от Нотебурга до Ниеншанца. Прорыв на этом направлении сулил серьезные стратегические преимущества.
Чтобы начать движение от истоков Невы, следовало вытеснить шведские корабли с Ладожского озера. Кораблей было немного — несколько бригантин и галер. Но Петр и этим похвастаться не мог. Теснили шведов солдаты и казаки, посаженные в лодки. Достаточно было одного ядра, чтобы раскидать такую, с позволения сказать, абордажную партию, однако русские проявляли удивительное хладнокровие. Атакующим должны были помочь две яхты, которые от Белого моря тащили волоком по знаменитой «Осударевой [государевой] дороге». Прорубленная в лесных чащобах, дорога-просека тянулась от поселка Нюхчи до Повенецкого погоста на севере Онежского озера. Затем суда по озеру и Свири устремились к Ладоге.
Настойчивость русских привела в замешательство хозяйничавшего на Ладоге адмирала Нумерса. К тому же приближались осенние шторма, особенно опасные на озере. Адмирал почел за лучшее уйти в Выборг. Это дало возможность Петру подступить в конце сентября 1702 года к Нотебургу.
Нотебург — крепость важная. Тот, кто владел ею, контролировал весь водный путь из Балтики, по Неве, Ладоге и далее, в глубь России. Стратегическое положение крепости хорошо понимали новгородцы, а в последующем московские великие князья и цари. Шведы приложили немало сил, чтобы в годы Смуты завладеть крепостью. С 1611 года на ее башнях стали развеваться королевские знамена. К 1702 году укрепления крепости безнадежно устарели. Недостаточной была и численность гарнизона — 450 человек. Тем не менее стоявший на острове Нотебург оставался сильной крепостью. Стремительное течение полноводной Невы осложняло любую десантную операцию.
Шведы отклонили предложение о капитуляции. 1 октября начался артиллерийский обстрел. Десятки бомб обрушились на крепость. Мирные жители, главным образом жены офицеров, «ради великого безпокойства от огня и дыму» попросили разрешение оставить Нотебург. Ответил сам царь, придавший своему отказу юмористический оттенок. Мол, он, капитан-бомбардир Петр Михайлов, не осмеливается даже передать эту просьбу Шереметеву, «понеже ведает он подлинно, что господин его фельдмаршал тем разлучением их опечалити не изволит, а если изволят выехать, изволили бы и любезных супружников своих вывесть купно с собою». В сомнительном с точки зрения юмора отказе царя не было стремления к излишнему кровопролитию. То была обычная практика XVIII века, заставлявшая прибегать к любым средствам, ведущим к победе.
Офицерские жены своих «супружников» из Нотебурга «вывести с собою купно» не смогли. Осада продолжилась. 11 октября последовал штурм. Охотники на лодках пристали к острову. Выскочили, облепили лестницами стены — оказались коротки! У трех проломов, пробитых артиллерией, атакующих встретили плотными выстрелами. Петр, наблюдавший за штурмом с берега, велел бить отбой. Но это была уже не та армия, которая показывает спину при первой неудаче. Командир семеновцев, подполковник Михаил Голицын осмелился нарушить приказ. Он велел оттолкнуть от берега лодки, чтобы не было соблазна отступать, и бить барабанщикам приступ. Теперь уже ничего не оставалось, как победить или умереть. Солдаты кинулись на второй штурм. В самый разгар сражения подоспел с подкреплением Меншиков. Исход сражения оставался неясным, когда противник, исчерпав силы, выбросил белые флаги.
Штурм дорого обошелся русской армии. Были убиты и умерли от ран более 500 человек. 22 человека за трусость были повешены.
Взятие Нотебурга завершило третий год войны. Петр, правда, остался верен себе и предложил продолжить «генеральный поход». Но этому решительно воспротивился Шереметев, объявивший, что люди устали «всесовершенно», а «паче же лошади», отошавшие на худых кормах. Лошади — не люди, и против такого аргумента оказался бессилен даже царь. Он приказал отвести полки на зимние квартиры, а сам спешно отправился в столицу. «Сам ведаешь, сколько дела нам на Москве», — сообщил он с дороги Борису Петровичу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
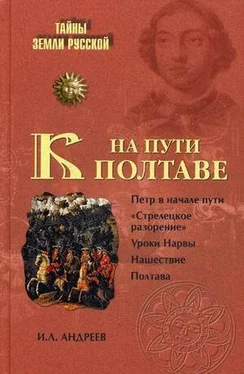

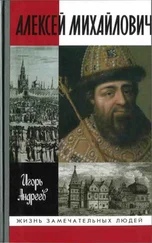

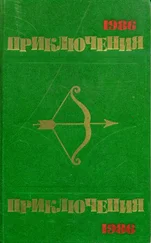

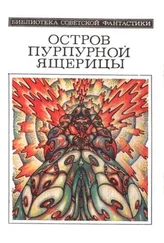
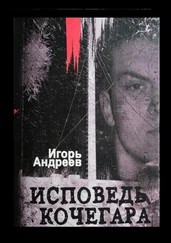
![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)


