Травентальский мир огорчил не одного Петра. Сам победитель посчитал, что англо-голландское вмешательство вкупе с советами собственных дипломатов лишило его победы. По-своему Карл XII был прав: никогда еще шведы не были так близки к тому, чтобы надломить военную мощь своих извечных соперников — датчан, как в августе 1700 года. Вот только чем бы впоследствии обернулось для Швеции столь радикальное изменение сил на Балтике, пугавшее и Англию, и Голландию, и северогерманские герцогства и княжества? Карл XII предпочел об этом не задумываться, решив в дальнейшем полагаться не на доводы дипломатов, а на собственную интуицию. Интуиция же подсказывала ему одну линию поведения: садиться за стол переговоров лишь после того, как удастся сокрушить противника. Иначе говоря, он твердо решил в дальнейшем не торговаться о мире, а диктовать его. Это вполне отвечало характеру шведского короля, предпочитавшему подобно его кумиру, Александру Македонскому, не развязывать, а разрубать межгосударственные узлы.
Саксонский курфюрст продолжал борьбу. Но Петр уже знал, что дела его в Лифляндии шли не лучшим образом. Рига устояла, заставив саксонцев отступить от ее бастионов. Современники не знали, чем объяснить эту неудачу, ведь обстрелы города осадной артиллерией вызвали большие разрушения и толки о капитуляции. Зато перед царем открывался шанс отличиться — прервать череду неудач и взять Нарву.
Петр планировал стянуть под Нарву всю свою полевую армию. Однако подход войск затягивался, и к моменту появления Карла XII под стенами крепости осаждавших в окопах и шанцах было около 35 тысяч человек {5} 5 Как водится, в литературе можно встретить разные данные о численности русского войска, устремившегося к Нарве. Устрялов определяет его численность в 30 тысяч человек, А. Петров — в 33 тысячи человек, Б. Тельпуховский пишет о 35 тысячах, Н. И. Павленко — 40 тысячах. Разночтения связаны с характером привлекаемых источников, методикой подсчета, изменением данных во времени. Бесспорно, однако, что численность подошедших к Нарве формирований была далека от мифических 80 и даже 100 тысяч, которыми оперировали в своих сочинениях шведские историки или Вольтер.
. Цифра весомая, а в сравнении с тем, скольких человек привел король для освобождения Нарвы, просто внушительная. Этого должно было с лихвой хватить и на то, чтобы отбиться от войск Карла XII, и на то, чтобы продолжить осаду крепости. Главные силы русской армии составляли два «генеральства», или дивизии, — Автомона Головина и Адама Вейде и гвардейские полки. Ждали также подхода 9 полков «генеральства» Н. Репнина, но князь замешкался и не успел подойти до начала сражения.
Помимо регулярных частей, к Нарве двинулись конные дворянские сотни. По принципам формирования, вооружению, принципам ведения боя их можно с полным основанием отнести к «осколкам» Средневековья. К началу XVIII века дворянское конное ополчение сохранилось в тех немногих странах, которые только вступили на путь создания армии нового типа. Петр принужден был мириться с существованием ополчения, поскольку создание полноценных кавалерийских формирований требовало много времени и денег. Как ни странно это кажется на первый взгляд, в конных сотнях пребывал цвет дворянства — московские чины, для которых служба здесь стала своеобразным убежищем от напора «неразрядных людей». Свою роль имело и материальное положение столичных чинов, позволяющих им явиться на службу «конно, людно и оружно». Всего в дворянских сотнях, отданных под начало Б. П. Шереметева (кроме московского дворянства, значительное число было новгородских и смоленских дворян), было около 6 тысяч человек. К этому стоит добавить огромный артиллерийский парк в 184 орудия, призванных крушить стены и башни крепости.
22 сентября передовые части подошли к Нарве, небольшой гарнизон которой — менее 2 тысяч человек, включая 400 человек жителей, — готовился отразить нападение. Не мешкая, солдаты принялись возводить батареи и шанцы. На случай попытки деблокировать Нарву извне, вокруг русского лагеря были построены укрепления, ключом к которым стали две устроенные на небольших возвышенностях батареи. Ров, вал и «испанские рогатки» довершали внешнюю линию обороны, создавая ощущение относительной безопасности — как-никак русская армия всегда оказывалась сильнее в обороне, нежели в наступлении.
20 октября начался обстрел крепости. Но «бросание бомб» не произвело того эффекта, который ожидался. Несмотря на внушительное число орудий, осадный парк представлял собой бессистемное «сборище» разнокалиберных, нестандартных орудий, отлитых в разное время и по разным технологиям. Так, самое мощное орудие — 40-фунтовая пищаль «Лев» — было отлито за 110 лет до осады знаменитым мастером Андрем Чоховым, создателем знаменитой Царь-пушки. Большие трудности возникли из-за пороха. Он оказался столь низкого качества, что едва добрасывал ядра до крепости. Сказалась и плохая выучка артиллеристов, не имеющих элементарных представлений о баллистике и правилах стрельбы. Огромные усилия, потраченные на то, чтобы подкатить к бастионам Нарвы «большой наряд», оказались затрачены впустую. Спустя десять дней после начала бомбардировки крепости большинство орудий прекратили огонь. Причины — плохой порох, малочисленность зарядов, рассыпавшиеся из-за ветхости станки. Капитану бомбардирской роты Петру Михайлову осталось только сокрушаться: все старое и неисправное…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
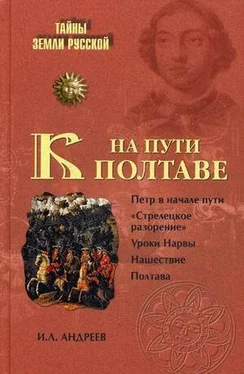

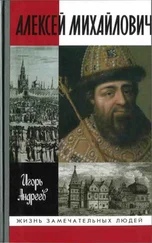

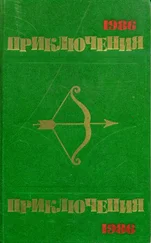

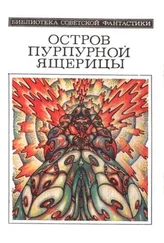
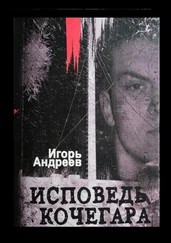
![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)


