И все же в этой печальной истории прощания сына с матерью есть свои темные стороны. Петр бежал от своего горя и от страданий умирающей Натальи Кирилловны, даже не подумав о том, что, быть может, очнувшись, она пожелает в последний миг своей земной жизни увидеть его. Мы не знаем, была ли царица в памяти или без памяти в свои последние часы. Зато точно знаем, что ее взгляд не мог найти среди скорбящих ненаглядного Петрушу. «Но все-таки сыну оставлять умирающую мать — противно чувству!» — не удержавшись, воскликнул один из первых биографов Петра, историк М. П. Погодин.
В мае 1694 года Петр отправился в путешествие по морю на Соловки. Во время плавания яхту настигла буря. Ветер был такой силы, что моряки не надеялись остаться в живых. Петр причастился. Но судьба хранила путешественников — вывернулись, проскользнули в Унскую губу, где волны бесновались не с такой силой. В память о спасении царь собственноручно поставил на берегу крест.
В 1630 году недалеко от места высадки Петра водрузил подобный крест анзерский иеромонах Никон. Водрузил по причине своего еще более невероятного спасения: в бурю угодила не яхта — лодка, чудом добравшаяся до пустынного кийского берега. Крест был обетный: старец обещал основать на месте спасения обитель и слово сдержал. Став патриархом, Никон, а это был именно он, построил здесь знаменитый Крестный монастырь.
Петр монастырь заложить не обещал да и число монахов множить не собирался. Потому обошелся крестом в прославление Спасителя. Впрочем, без петровского своеобразия не обошлось — крест украшала надпись на голландском языке, без упоминания царского имени: «Сей крест сделал шкипер Петр в лето Христово 1694».
По возвращении из Соловков на воду был спущен корабль «Святой Павел». Несколько позже в Архангельск пришел купленный в Голландии фрегат «Святое пророчество». Теперь уже царь мог встречать и провожать иностранные торговые суда под собственными стягом. Событие для Петра было архиважным, и он не скрывал радости: «Что давно желали, ныне совершилось». В завершение навигации 1694 года русская эскадра из трех кораблей проводила торговцев до Канина (Святого) Носа. Петр не отказал себе в удовольствии попрощаться с негоциантами орудийным залпом.
Государственные заботы, быть может, даже помимо воли все более одолевали Петра. Время потех заканчивалось. Игры царя перерастали в серьезные начинания. Осенью 1694 года случилась последняя крупная «потеха» под Кожуховом. «Генералиссимус Фридрих Ромодановский» с «потешными» и выборными полками нападал на «польского короля» Ивана Бутурлина. Всего в столкновении участвовали семь с половиной тысяч человек. Бутурлин, которому по сценарию полагалось проиграть баталию, упорствовал. Сначала не хотел сдать крепость, затем засел в укрепленном лагере. Но ничего не помогло, пришлось сдаться. Конечно, бои не предполагали смертоубийства. Но игры с порохом и пушками, призванные дать войскам необходимую выучку, были занятием опасным. Имелись раненые и убитые.
Кожуховские баталии стали генеральной репетицией перед куда более серьезной премьерой — штурмом Азова. «Шутили под Кожуховом, а теперь под Азов играть едем», — в обычной для себя манере говорить о серьезном несерьезно прокомментировал связь между маневрами и предстоящим походом Петр. Возможно, с надеждой, что войска заберутся на стены Азова стой же легкостью, с какой влезали навалы «потешных» укреплений. Но не сбылось. В 1695 году царю пришлось испытать большое разочарование, тем более чувствительное, что еще совсем недавно он насмехался над «большим воеводой» Василием Голицыным за куда меньшую неудачу.
Азов, точно наглухо вбитая в узкое горлышко бутылки пробка, накрепко закупоривал Азовское море. После знаменитого «азовского сидения», когда донские казаки выбили турок из крепости и просидели в ней пять лет, отбиваясь от громадных орд султана, турки всерьез занялись укреплением стен и башен города. В дополнение они возвели на берегах Дона две каланчи, перегородившие реку цепями. Нельзя сказать, чтобы путь казаков в Азовское и Черное море был полностью перекрыт. Дончаки правдами и неправдами прорывались на большую воду. Но потери возросли многократно. Конечно, это был удар по Донскому войску, для которого военная добыча являлась важной статьей дохода. Поневоле пришлось искать новые направления для грабительских экспедиций — «походов за зипунами». Мудрствовать долго не приходилось. Вспомнили про Каспий с богатыми персидскими городами. Но Каспий — это еще и Волга с купеческими, боярскими, патриаршими и даже царскими насадами — кораблями, полными всевозможного добра. Как тут удержаться, не погулять и не пограбить? Начали с малого — принялись разбивать торговые караваны посреди реки, кончили большим — «тряхнули» всем царством, да так, что набатный всполох разинской вольницы прокатился от низовьев Волги почти до ее истоков. Вот и получалось, что между крепостью Азов и движением Разина, пускай не прямо, пускай косвенно, существовала связь: замысловатыми тропинками одна история привела к истории другой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
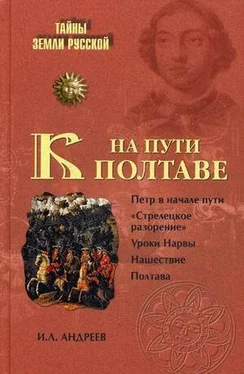

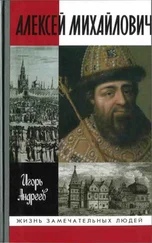

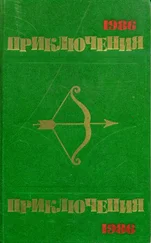

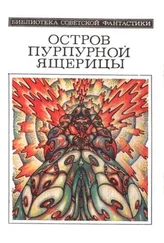
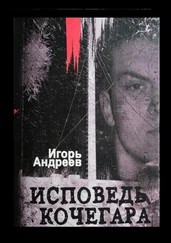
![Игорь Андреев - Трансформация [СИ]](/books/401618/igor-andreev-transformaciya-si-thumb.webp)


