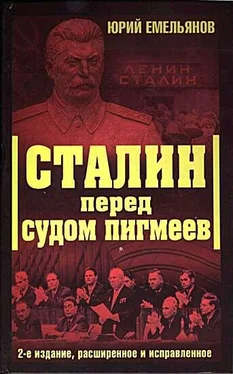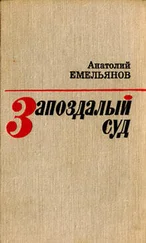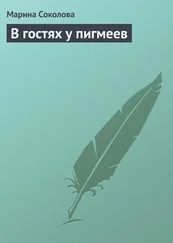В своей статье «Почему сталинизм не сходит со сцены?» Л. Карпинский утверждал, что «под сталинизмом… следует понимать не только реальную административно-бюрократическую систему, охватившую практическую жизнь общества, но и систему соответствующих взглядов и представлений, навязанную общественному сознанию. Сталинизм обернулся идейно-психологическим комплексом». Карпинский безапелляционно изрекал: «Одним из тяжелых преступлений сталинизма явилось внедрение рабской психологии в жизнь народа… Под прессом сталинизма разум свелся к рассудку, а рассудок — к предрассудкам».
В качестве примера таких «предрассудков» Карпинский привел убеждения советских людей в том, что «без Сталина мы бы не создали могучую индустрию и не победили в Великой Отечественной войне; путь, по которому повел Сталин, был единственно возможным и объективно предопределенным историей». Карпинский опровергал этот «предрассудок» так: «Гласность обнаружила, «кто есть кто». Вполне выяснилось, что Сталин, стоя в центре нас, был с нами всего лишь попутно, «между прочим», а по существу, преследуя цели самовластия, шел против нас. И в этой роковой «неувязке», пожалуй, и заключается главная драма нашей истории», Вывод, который сделал критик Чубинский из романа Рыбакова, теперь принимался Карпинским как доказанная истина.
Подразумевая, очевидно, книгу Рыбакова, пьесы Шатрова, а также ряд публицистических статей, появившихся в период «гласности», Карпинский уверял, что теперь советские люди узнали всю правду о Сталине. На деле эта «правда» лишь повторяла многократно повторенный вывод, сформулированный в байках либеральной интеллигенции: «Все победы советские люди достигали вопреки Сталину».
Одновременно Карпинский говорил и о «неправомерной» цене советских побед. Но тогда возникал вопрос: если они были достигнуты вопреки Сталину, то и «неправомерная» цена не была следствием усилий Сталина. Однако логика явно не была сильной стороной мышления Карпинского, обожавшего в свою бытность секретарем ЦК ВЛКСМ не логически обоснованные выводы, а трескучие фразы, вроде «фантазия — это стартовая площадка мечты».
Вторя Карпинскому в своей статье «Чтобы это не повторилось», В. Фролов попытался разбить все «сталинские мифы». Для начала он выделил «пять категорий апологетов культа Сталина». 1) Молодежь, которая о времени культа может знать либо по литературным (историческим) источникам, либо вследствие определенного воспитания в семье. 2) Сравнительно небольшое (в силу чисто возрастного фактора) количество людей, являвшихся участниками тех событий и бывших проводниками идей культа личности и его методов. 3) Представители «того самого «маргинального» слоя, повязанные коллективной ответственностью за содеянное или хотя бы «бывшие пассивными свидетелями происходившего», а также «люди, фанатично преданные революционным идеалам, для которых все, связанное с Советской властью, может рассматриваться только в положительном аспекте». Фролов спешил заметить, что «любой вид фанатизма, даже продиктованный лучшими побуждениями, не является предметом подражания».
Носители ностальгии «по сильной личности», которые подчеркивают, что «при Сталине не было воровства, была железная дисциплина, мы выиграли войну, общество, в том числе и его экономика, развивалось». Фролов тут же оговаривался, что в их «утверждениях заложено много ошибок».
«Противники гласности и демократизации. На мой взгляд, это самая опасная группа…».
Получалось, что против очернения Сталина и его времени выступают враги общественного прогресса, лица, запятнавшие себя преступлениями в прошлом, «зеленая» молодежь», фанатики или люди, допускающие грубые исторические ошибки. Читателем предлагалось сделать несложный выбор: с кем они — с заблуждающимися, несмышленышами, одержимыми и преступниками, или с такими «честными», «умными», как автор статьи.
В. Фролов также предлагал краткий перечень ответов «сталинистам», которые могли бы направить их на путь истинный. Повторяя тезис Карпинского, Фролов писал: «Во-первых, многое в нашей истории было достигнуто не благодаря Сталину, а вопреки ему».
«Во-вторых, — утверждал Фролов, — страна действительно развивалась, но общий уровень мировой экономики позволял в тот период добиваться определенных успехов волюнтаристскими методами руководства». В каких исторических рамках существовал во всем мире такой необыкновенный порядок вещей, Фролов не уточнял.
Читать дальше