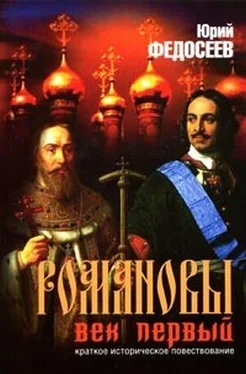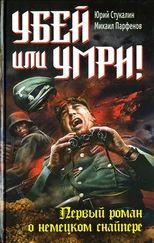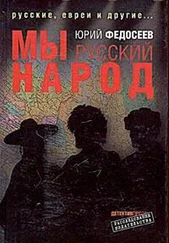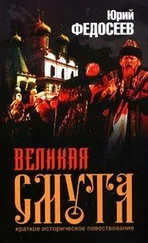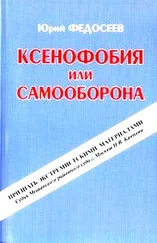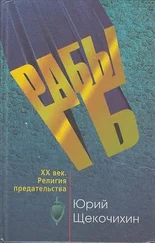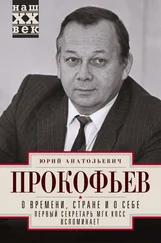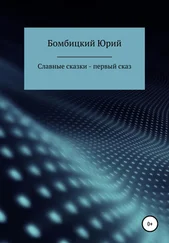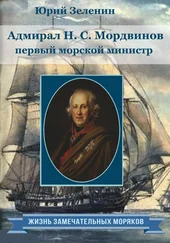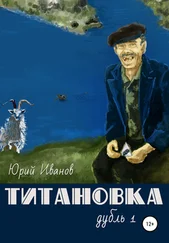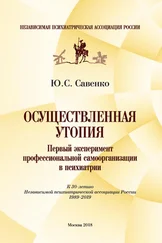Наверху карательной пирамиды, созданной Петром, находились органы политического сыска. Мы уже упоминали о печально знаменитом московском Преображенском приказе времен Ф. Ю. Ромодановского, через который прошли сотни преступников и, нужно полагать, тысячи ни в чем не повинных людей. Чтобы подвергнуть несчастного пыткам, было вполне достаточно устного доноса, какого-то недоразумения или просто попасть под горячую руку царю-батюшке.
Но умер Ромодановский, ликвидирован приказ, а функция-то осталась, и вот на смену им приходят Петр Андреевич Толстой и Андрей Иванович Ушаков со своей Тайной канцелярией, которая в скором времени прославится убийством наследника престола Алексея Петровича.
И все-таки нужно отдать должное Петру — принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления при нем действовал практически безукоризненно. Ни прежние заслуги, ни близость к трону, ни высокие звания, ни даже кровное родство не гарантировали неприкосновенность личности преступающего закон и поступающего против воли самого царя. За выдачу лишнего жалованья своему брату и растрату казенных денег во время поездки во Францию был отрешен от всех должностей, лишен имущества и отправлен в ссылку бывший вице-канцлер и сенатор барон Михаил Шафиров. За недостойное поведение в Сенате разжалован в солдаты и отправлен надзирать за строительством Ладожского канала обер-прокурор Скорняков-Писарев. За взятки колесован обер-фискал Алексей Нестеров, а его преемник Михаил Желябужский за подделку документов был бит кнутом и сослан на каторгу. Неоднократно царь собственноручно бивал палкой за воровство своего друга и наперсника князя Александра Меншикова.
В петровское время предпринималась безуспешная попытка разделить власть судебную и административную. Причем эта в общем-то прогрессивная идея принимала самый неожиданный оборот. Было время, когда суду, состоящему из трех гвардейских офицеров — майора, капитана и поручика, предлагалось выносить решения не в соответствии с законом, а «согласно здравому смыслу и справедливости». Хорошо еще, что вовремя одумались, так как разное понимание справедливости, нехватка подготовленных кадров и разногласия, тут же возникшие между ветвями власти, могли привести к самым печальным последствиям. В 1722 году в каждой губернии вновь появился надворный суд под председательством губернатора, а в каждой провинции — провинциальный суд под председательством воеводы.
Кадры, кадры… Даже через двести лет эта проблема будет стоять настолько остро, что фраза: «Кадры решают все», — произнесенная почитателем Петра, будет еще сто лет звучать актуально. Петра Алексеевича задним числом обвиняют в том, что он, создавая школы, не озаботился пропитанием учеников, отчего те голодали и нищенствовали; что для дворянских детей он установил учебную повинность, за уклонение от которой могли последовать жестокие репрессии, а безграмотность лишала их права владения имениями и даже препятствовала вступлению в брак.
А как бы мы хотели? Ведь заставляем же мы детей умываться и чистить зубы каждый день. Что было бы с Россией, если бы в начале XVIII века в ней вдруг восторжествовала идея свободы личности? Большинство бросилось бы в бега от государственных повинностей, превращаясь в «гулящих людей», бродяг, разбойников, недорослей. Стала бы Россия империей и, вообще, сохранила бы она свой суверенитет в этих условиях, да еще при таких агрессивных соседях, как Швеция, Турция, Польша? Вряд ли. Поэтому все, что делал Петр по упорядочению внутригосударственных отношений, было государственно необходимо. Не демократично, но государственно необходимо.
У государственника Петра общественные интересы всегда превалировали над личными интересами, поэтому он не щадил ни себя, ни близких себе людей. Хотя положа руку на сердце мы задним умом понимаем, что все это можно было делать в духе Алексея Михайловича или Федора Алексеевича — шаг за шагом, без надрыва и аврала, без крови и страданий.
Легко нам судить по прошествии трехсот лет. А тогда, видя разительное отличие России от Европы, Петр, видимо, недоумевал: почему в общем-то неглупый русский народ не живет как в Англии или Голландии? — и приходил к выводу: не хочет. Ах, не хочет?! Ну тогда мы его заставим. И заставлял. Заставлял пить полезный уксус и оливковое масло, заставлял ходить в коротком платье и плясать на ассамблее, заставлял учиться, строить корабли и заводы, лить чугун и рыть каналы. В своем рвении учить он часто перебарщивал, внедряясь в сферы, о которых имел весьма смутное представление, но европейский образец ему казался предпочтительней. Вот и издавались указы о запрете изготавливать и носить остроконечные ножи, об увеличении ширины ткацкого станка, об уничтожении североморских и каспийских судов, отличавшихся своими обводами от голландских. А то, что эти станки не умещались в крестьянской избе, что суда с голландской обводкой в условиях севера уступали русским по своим судоходным качествам, что, изъяв из оборота остроконечные ножи, нечем было бы зарезать скотину и разделать ее тушу, — дело «десятое». Главное — сделать так, как в просвещенной Европе…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу