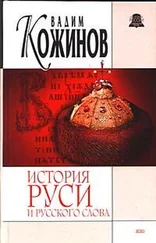Но, пожалуй, самообвинение было не вполне справедливо. Многое говорит о том, что Тютчев любил обеих женщин поистине на пределе души. Возможность такой, конечно, очень редко встречающейся, ситуации объясняется отчасти тем, что Эрнестина Пфеффель и Елена Денисьева отличались друг от друга не меньше, чем Европа и Россия... И самое чувство любви поэта к каждой из них было глубоко различным.
В Эрнестине Федоровне поэта восхищала "выдержанность" и "серьезность"; между тем, говоря об Елене Денисьевой, как вспоминал муж ее сестры Георгиевский, Тютчев "рассказывал об ее страстном и увлекающемся характере и нередко ужасных его проявлениях, которые однако же не приводили его в ужас, а напротив, ему очень нравились как доказательство ее безграничной, хотя и безумной, к нему любви...".
Это заключение, по всей вероятности, справедливо. В минуту полной откровенности Тютчев говорил, что он несет в себе, как бы в самой крови, "это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви...".
Поэту ни в коей мере не были присущи жажда славы, почестей, власти, тем более богатства и т.п. Но то, что он назвал "жаждой любви", переполняло его душу, пронизывая ее и восторгом и ужасом.
Через два года после женитьбы на Эрнестине Федоровне он должен был на несколько недель с ней расстаться; вскоре он написал ей (1 сентября 1841 г.): "Мне решительно необходимо твое присутствие для того, чтобы я мог переносить самого себя. Когда я перестаю быть существом столь любимым, я превращаюсь в существо весьма жалкое".
А гораздо позднее, в сентябре 1874 года, Иван Аксаков рассказал в письме к дочери поэта Екатерине, что ее отец не раз покаянно говорил о присущем ему "злоупотреблении человеческими привязанностями...".
Вся жизнь поэта ясно свидетельствует, что слово "злоупотребление" это безжалостное самоосуждение. Можно сказать, что он испытывал беспредельное упоение той любовью, которую он вызывал, что он утопал в этой любви, словно теряя в ней самого себя и свою любовь. Ему казалось, что вызванная им любовь - ничем не заслуженный, поистине чудесный дар. Вот убеждение, которое Тютчев не раз высказывал в различной форме: "Я не знаю никого, кто был бы менее, чем я, достоин любви. Поэтому, когда я становился объектом чьей-нибудь любви, это всегда меня изумляло..."
Именно таковым, очевидно, было и начало его отношений с Еленой Денисьевой. Как свидетельствовал Георгиевский, поэт вызвал в ней "такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником".
Любовь Елены Денисьевой в самом деле являла собой нечто исключительное; Георгиевский буквально не мог подобрать слов для определения ее силы и глубины. Он писал, что Елена Александровна смогла "приковать к себе" поэта "своею вполне самоотверженною, бескорыстною, безграничною, бесконечною, безраздельною и готовою на все любовью... таковою любовью, которая готова была и на всякого рода порывы и безумные крайности с совершенным попранием всякого рода светских приличий и общепринятых условий".
Стоит добавить, что и сам характер этой женщины был соединением "крайностей"; Георгиевский подчеркивает, в частности, что Елена Александровна, готовая на "попрание" всех "условий", в то же время была женщина "глубоко религиозная, вполне преданная и покорная дочь православной Церкви", - не забывая при этом отметить, что "глубокая религиозность Лели не оказала никакого влияния на Федора Ивановича".
О безмерной любви своей Лели поэт не раз говорил в стихах, сокрушаясь, что он, породивший такую любовь, не способен подняться до ее высоты и силы; вот его поразительные строки от этом:
Ты любишь искренно и пламенно, а я
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.
И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.
Он вновь и вновь повторяет, что "не стоит" ее любви:
Пускай мое она созданье
Но как я беден перед ней...
Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...
Эти самообвинения справедливы в одном отношении: поэт не мог расстаться с Эрнестиной Федоровной и целиком отдать себя новой любви. Но едва ли можно усомниться в том, что он любил Елену Александровну по-своему так же безгранично, беспредельно, как и она его.
...Еще в первые годы своей любви поэт создал символический образ возлюбленной, образ "своенравной волны", которая полна "чудной жизни":
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу