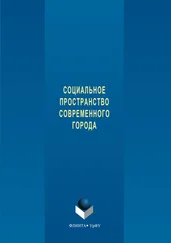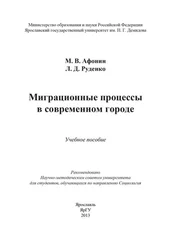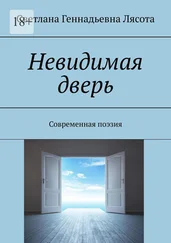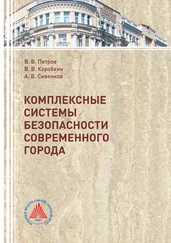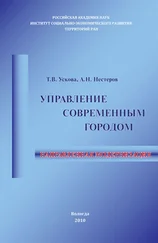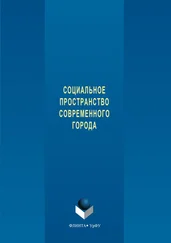Старейшие и наиболее устойчивые армянские соседские поселения располагались улицами: это, во первых, улица Абовяна (бывшая Астафьевская), несколько улиц, отходивших в разные стороны от центральной площади (точнее, от “бани с часами”, что была на месте памятника Ленина). Исключение составляли Айгестан (рядом с ул. Чаренца), Антараин (высокий “берег” проспекта Баграмяна), Норк, Сари таг и Конд. Эти исключения и были собственно “тагами”.
Новое строительство 40-х годов часто повторяло в пятиэтажном исполнении замкнутые дворы “майл”, объединявшие соседей некими полуобщинными отношениями. Однако, если “майлы” азербайджанцев, были, по существу, сельскими поселениями (с садами, оросительной системой, отсутствием городской канализации), то новые “таги” армян были городскими. Отличал их и относительно высокий уровень жизни, и связь с промышленным производством (новое жилье строилось самими предприятиями для своих работников). Но самое главное в новых “тагах” – отсутствие родственных связей на новом месте. Это были чисто соседские сообщества. И между тем люди объединялись довольно плотно, не хуже, чем в бывших родственных общинах…
Причиной была высокая преступность и слабость общего городского порядка. “Майл” служил для людей защитой от внешнего окружения, от города, в котором пока не было никаких устоев, никаких правил.
Определяющим для образа жизни было и… наружное освещение (ему еще предстояло сыграть огромную роль в самосознании ереванцев в более поздние годы). Хорошее дворовое и уличное освещение означало возможность проведения вечернего досуга, что было особенно важно для промышленных рабочих (в основном – армян), которые вставали рано, в отличие от занятых садоводством (примерно пополам – азербайджанцев и армян). Но самое главное – освещение означало относительно большую безопасность в вечернее время. Старые “майлы” сельского типа, практически исключали возможность перемещения по их территории посторонних людей. Да и не было в том нужды – это были маленькие частные дворики. Жители новостроек больше полагались на освещение, позволявшее им коротать вечера в больших современных дворах и одновременно следить за порядком.
“Гвардия” и “оборона”
Власти отчаялись бороться с преступностью, захлестнувшей послевоенный Ереван. У жителей на руках было большое количество огнестрельного и холодного оружия, которое при всяком случае пускалось в ход.
Власти пошли на беспрецедентный шаг с целью обуздания преступности. Были созданы дворовые отряды самообороны (так называемые “гвардии”), вроде народных дружин, которым, однако, разрешено было носить оружие. “Гвардейцы” были, фактически, легализованными бандами, которые быстро поделили город на зоны, после чего начались массовые разборки между самими “гвардейцами” за власть над неосвоенными территориями. Почти сразу власти бросились бороться с гвардейцами, разоружать их.
Легенда сохранила историю об “Азат майле” (Свободной майле), армянском поселении, располагавшемся на месте нынешнего микрорайона “Нор Бутания”. “Азат майла”, по легенде, не платила ни налогов, ни за коммунальные услуги. В эти темные дворы не смел войти не только посторонний прохожий, но и представители власти и милиции. Убежища в “Азат майле” мог попросить любой обиженный властями человек.
Избавились от беспокойной общины только снеся дома под корень бульдозерами. Жители встретили бульдозеры огнем из самого настоящего пулемета. Но оставшись без жилья, вынуждены были смириться и расселиться по новым квартирам…
Еще один пулемет был найден в старейшем поселении – Конде. Этот своеобразный район пытался сравнять с землей буквально каждый партруководитель. Сопротивление жителей тут, к счастью, возымело действие: До стрельбы дело не дошло, хотя пулемет был найден и здесь – его прятали в местной церкви.
Конд остался жить до наших дней. В 80 годы археологи выяснили, что это оборонное поселение непрерывно существовало аж с IV века. В то время оно носило практически то же название – “Конт”.
Городская Армения начала 50-х
Армении долго готовили роль сельскохозяйственной республики, но с сельским хозяйством ладилось не очень: колхозы бедствовали, кампании типа “сеять хлопок” или “выращивать сахарную свеклу” проваливались. Фактически, успешными были только садовые и бахчевые культуры и виноград: то, что раньше было монополией ереванских садоводов. Не выдерживая конкуренции со стороны села (на селе было лучше с оросительной водой), ереванские садоводы ушли на промышленное производство. Бросили свое дело и сельские пастухи по всей Армении. Например, овцеводство, традиционное для многих районов Армении, почти прекратилось. Жители влились в кадры рудокопов и энергетиков. Вся Армения стала потихоньку более городской.
Читать дальше