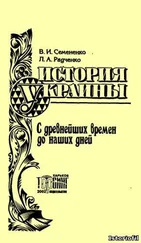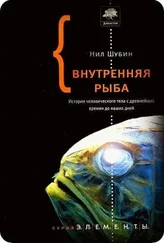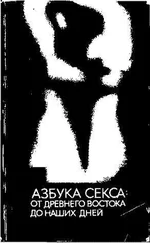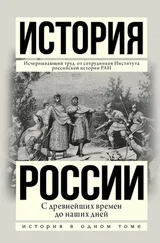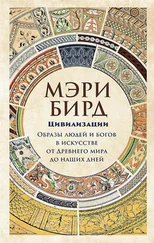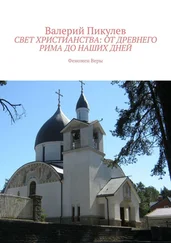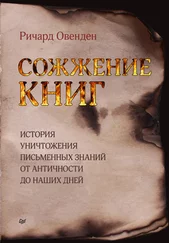Одновременно продолжалась работа и по завершению дешифровки египетской письменности. Вкладом в эту работу явились труды англичанина Берча, ирландца Хинкса и немца Бругша; два первых занимались иероглифами, и особенно детерминативами, а последний, еще будучи учеником старших классов гимназии, — демотикой.
В заключение попытаемся дать краткий обзор того, что было достигнуто в области дешифровки египетской письменности за те полтораста лет, которые протекли со времени деятельности Шампольона.
Уже указывалось, что три формы египетского письма — иероглифика, иератика и демотика — в действительности являются одной письменностью. Поэтому для того чтобы кратко изложить их структуру и сущность, можно было бы удовлетвориться описанием только прославленных иероглифов, которые больше всего окутаны тайной тысячелетий.
Египетское письмо, как известно, содержит три вида знаков: слова-знаки, звуковые знаки («отдельные буквы») и немые пояснительные знаки.
Слова-знаки , или идеограммы, передают понятие определенного видимого предмета (причем здесь не имеет никакого значения, как произносится слово, выражающее изображаемый предмет). Таких знаков в египетской письменности довольно много, однако они ни в коей мере не исключают использования других знаков.
Особенно поражает, как удачно эти знаки соединяют в себе натуралистическое изображение и простую стилизованную форму очертаний; «они столь блестящи по выполнению, столь художественно совершенны, как ни у одного из других народов» (Г. Шнейдер).
То же самое относится и к словам-знакам, употреблявшимся для обозначения чувственно воспринимаемых действии. Эти знаки рисовались таким образом, чтобы зафиксировать наиболее характерный момент действия: например, изображение человека с поднятой палкой (вверху слева) означало «бить», изображение птицы с распростертыми крыльями — «летать» и т. д.
Труднее уже было выразить абстрактные понятия, но и здесь на помощь приходили рисунки, и задача сводилась к тому, чтобы изображаемое увязать по смыслу с выражаемым понятием. Понятие «властвовать» передавалось посредством знака скипетра фараонов, напоминающего клюку; лилия, входившая в герб Верхнего Египта, означала «юг», старец с палкой — «старость», сосуд, из которого вытекает вода, — «прохладный».

Рис. 53. Египетские идеограммы, изображающие зрительно воспринимаемые действия.

Рис. 54. Египетские иероглифы, выражающие абстрактные понятия.

Рис. 55. Египетское иероглифическое письмо. «Построил (а) высший чиновник (б) зал (в)» (царя Менеса, около 3500 г. до н. э.).
Но все эти знаки не выводят нас еще из сферы слово-рисуночного письма: они выражают только понятие, а отнюдь не слово-звук. Следующий рисунок наглядно показывает, что в эпоху седой древности египетская письменность как раз и довольствовалась именно таким способом выражения.
Однако многое все-таки зависело от точного звучания написанного слова. И здесь уже очень рано на помощь пришел так называемый звуковой ребус (о нем речь шла в главе). Египетскому языку это далось тем более легко, что в нем, как известно, гласные не пишутся и, стало быть, в запасе оказались многочисленные омонимы , то есть слова, которые имеют одинаковые согласные, расположенные в одном и том же порядке. Но если пишется не само слово, а лишь его остов, костяк, состоящий из согласных (звучание гласных, а следовательно и всего древнеегипетского языка до нас не дошло и лишь приблизительно восстановлено сравнительным методом), то появляется возможность передавать, например, знаком, обозначавшим лютню,  n-f-r , также и слово «хорошо», которое заключает тот же костяк согласных ( n-f-r ), или применять рисунок ласточки
n-f-r , также и слово «хорошо», которое заключает тот же костяк согласных ( n-f-r ), или применять рисунок ласточки  w-r для написания слова «большой» (тоже w-r ). (Так, в русском языке д-м соответствовало бы по смыслу словам «дом», «дым», «дума», «дама», «дома».) Кроме того, поскольку звуки и w в конце слова, очевидно, довольно рано превратились в немые, стали использовать рисуночный знак
w-r для написания слова «большой» (тоже w-r ). (Так, в русском языке д-м соответствовало бы по смыслу словам «дом», «дым», «дума», «дама», «дома».) Кроме того, поскольку звуки и w в конце слова, очевидно, довольно рано превратились в немые, стали использовать рисуночный знак  р-r «дом», например, для написания глагола p-r-j «выходить» и т. д.
р-r «дом», например, для написания глагола p-r-j «выходить» и т. д.
Читать дальше
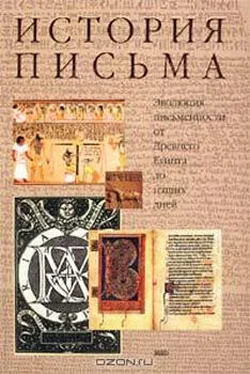



 n-f-r , также и слово «хорошо», которое заключает тот же костяк согласных ( n-f-r ), или применять рисунок ласточки
n-f-r , также и слово «хорошо», которое заключает тот же костяк согласных ( n-f-r ), или применять рисунок ласточки  w-r для написания слова «большой» (тоже w-r ). (Так, в русском языке д-м соответствовало бы по смыслу словам «дом», «дым», «дума», «дама», «дома».) Кроме того, поскольку звуки и w в конце слова, очевидно, довольно рано превратились в немые, стали использовать рисуночный знак
w-r для написания слова «большой» (тоже w-r ). (Так, в русском языке д-м соответствовало бы по смыслу словам «дом», «дым», «дума», «дама», «дома».) Кроме того, поскольку звуки и w в конце слова, очевидно, довольно рано превратились в немые, стали использовать рисуночный знак  р-r «дом», например, для написания глагола p-r-j «выходить» и т. д.
р-r «дом», например, для написания глагола p-r-j «выходить» и т. д.