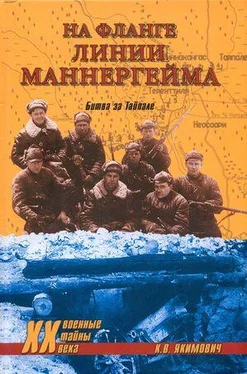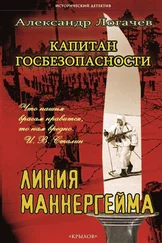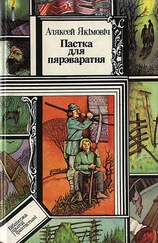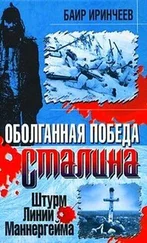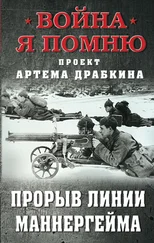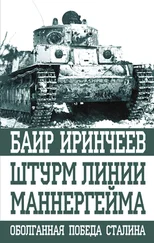А если нет, если судьба улыбнулась ему и он смог дождаться долгожданного (и не всегда бывающего) приказа на отход, то он опять вползает в свою нору, вырытую в мерзлом песке в паре сотен метров от реки Тайпалеен-йоки, чтобы снова мерзнуть у крохотной земляной печурки, и жадно хлебать паек из черного от копоти алюминиевого котелка, и молиться, чтобы в следующую атаку его взвод не послали, а послали бы соседний, а он с готовностью будет выполнять все, что будет приказано, — копать новые окопы, ползком подтаскивать ящики с боеприпасами к передовой, оттаскивать за реку раненых, словом, все, лишь бы не туда, под невидимые на слепящем снегу веера пулеметных очередей.
На постоянные неудачи советских подразделений влиял и тот фактор, что даже через месяц боев в войсках остро ощущался недостаток боевого «окопного» опыта. После губительных атак поля за Тайпалеен-йоки были усеяны мертвецами, которые никогда никому уже ничего не могли рассказать. Оставшиеся в живых раненые и покалеченные солдаты отправлялись в тыл. На их места приходили новички из маршевых батальонов, внезапно вырванные из привычной гражданской жизни, которым некому было поведать, где у противника пулемет, когда следует атаковать, а когда залегать в воронке, как вести себя под артиллерийским обстрелом и что делать, если тебе удалось достичь вражеских окопов. Как только отправленное на переформирование подразделение возвращалось на передовые позиции, все повторялось заново — кровь, отход на исходные, досада и недоумение.
Такова была жизнь в окопах у реки Тайпалеен-йоки. И в принципе она не отличалась от условий службы на других участках фронта Карельского перешейка. Каждый прожитый день считался удачей. Каждый следующий мог обернуться непоправимой трагедией. И таких дней на Тайпале было ровно сто…
«Фарфоровая дивизия» и «Черный день Тайпале»
После первой недели жарких февральских боев и у советских 150-й и 49-й дивизий, и у финской 7-й дивизии резервов уже не оставалось. Молох сражения опустошил людские ресурсы. Штабы обеих сторон поспешно стали изыскивать возможность пополнения.
Командарм Грендаль получил еще одну дивизию, не считая личного состава, который прибывал в составе маршевых батальонов, пополняющих обескровленные соединения. 62-я стрелковая дивизия РККА, до поры до времени расквартированная в районе Рауту и Липола, теперь занимала позиции по южному берегу Суванто-ярви, сменив на этих рубежах неудачную 4-ю стрелковую. Время работало против Грендаля. Соседняя 7-я армия во главе с Мерецковым уже пробила брешь на участке Сумма-Ляхде, прорвав наконец линию Маннергейма. За пару дней прорыв был расширен, и теперь с изрядной долей уверенности можно было сказать, что линия Маннергейма взломана. Дорога к Выборгу была открыта, и за сколько времени пройдут ее части армии, зависело только от умения командования и выносливости личного состава. А здесь, на востоке Карельского перешейка, опять возник затор. Нужны были люди. Много людей, чтобы еще раз попытаться пробиться на север вдоль западного берега Ладожского озера.
Эшелоны из Астрахани, Белоруссии и из средней полосы России привозили новых и новых рекрутов. Они прибывали в затемненный Ленинград, на Московский вокзал, садились в многочисленные грузовики, от ночного движения которых дрожали стекла домов на Литейном проспекте, и исчезали в сумраке Финляндского вокзала. Далее, если мандатная комиссия распределяла пополнение в 13-ю армию, их направляли на станцию Рауту, ставшую основным пунктом материально-технического снабжения всех войск Северо-Западного фронта, воюющих на востоке Карельского перешейка.
Ну а затем уже новобранцы отправлялись за реку Тайпалеен-йоки, в Коуккуниеми, где они вливались в батальоны, ждущие сигнала к атаке. Пока сигнала о наступлении не поступало, солдаты занимали опустевшие крохотные блиндажики, греясь у самодельных печурок, коптящих морозный воздух трубами из обрезанных снарядных гильз. Собственно, и блиндажами их назвать было трудно. Вырытые в мерзлом грунте ямы на одного-двух человек, они скорее напоминали норы, в которых пытались согреться советские граждане, сталинской волей вырванные из тепла родного дома и брошенные на негостеприимную землю Финляндии. Вместе с кошмарными условиями обитания новобранцы часто получали от ушедших в мир иной предшественников «наследство» в виде предметов нехитрого солдатского быта. Порой на доставшемся новобранцу черном от копоти котелке четко проступали одна-две выцарапанные фамилии его прежних хозяев. Несмотря на то что с января в войска стала поступать теплая одежда, хорошие валенки всегда были дефицитом. Бывали случаи, когда эту традиционную теплую обувь стаскивали с трупов, чтобы ею могли воспользоваться живые. Снять валенки с мертвого сослуживца на морозе являлось нелегким делом и поэтому, если обувь намертво смерзалась с ногой покойника, голенище разрезалось сбоку, валенок стаскивался, а затем прошивался шнуровкой для того, чтобы он не спадал с ноги нового владельца.
Читать дальше