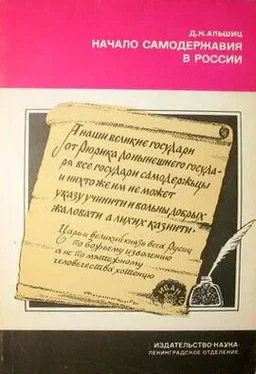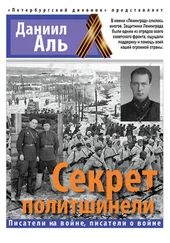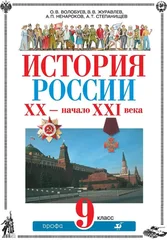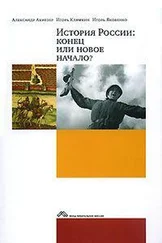Там же, в описи царского архива, есть, как мы помним, и другая запись, свидетельствующая о том, что в 1563 г. царь взял к себе из архива следственное дело о тайном заговоре князя Семена Лобанова-Ростовского, раскрытом в 1554 г. Именно на основе итого взятого царем к себе дела написана приписка к Синодальному списку Лицевого свода под 1554 г., рассказывающая о заговоре Ростовского и о суде над ним. Весьма трудно представить себе, что царь взял дело Лобанова-Ростовского в 1563 г. и держал его у себя до 80-х гг., т. е. примерно 20 лет, прежде чем перенести его содержание в летопись своего царствования.
Как сообщает опись, царь с 4-го по 14-е августа 1566 г. едва ли не ежедневно посещал свой архив, лично просмотрел содержание 31 ящика и многие дела взял к себе. Материалы дел, содержавшихся в этих ящиках, нашли отражение в его приписках к Лицевому своду. Допускать, что и эти материалы царь использовал лет через 15 после того, как взял их из архива, — тоже явная натяжка.
Далее. Всеми историками отмечено исключительное внимание автора приписок к подчеркиванию роли царя Ивана IV в победе над Казанью. Те, кто считает, что они сделаны в 80-е гг., объясняют этот факт тем, что Курбский в своей «Истории» всячески принижает роль Грозного в этих событиях, поэтому-де приписки являются в этой части ответом на «Историю» Курбского. Однако вполне очевидно, что величие самого факта взятия Казани — вполне достаточный повод для царя подчеркнуть свою роль в этих событиях. Тем более, что именно в своем первом письме к Курбскому, т. е. в 1564 г., Грозный гневно обрушивается на воевод, нерадиво действовавших под Казанью, а затем чуть не погубивших русское войско в преждевременном штурме, подчеркивая при этом свою решающую роль в победе над Казанским ханством.
А как быть с тем фактом, что в Лицевом своде помещен подробный рассказ о введении опричнины и слово «опричнина» в нем фигурирует многократно и без всяких оговорок? Мы ведь знаем, что с 1572 г. слово «опричнина» исчезло из документов и было заменено словом «двор».
Враждебное отношение, выраженное в приписках, к двоюродному брату царя Владимиру Старицкому и его родичам оппоненты нашей точки зрения объясняют тем, что в конце 70-х гг. «неприязнь» к Старицким усилилась. Можно ли, однако, считать, что неприязнь к покойникам в большей степени толкала на сведение с ними счетов на страницах летописи, чем реальная политическая вражда, приведшая к уничтожению Старицких в конце 60-х гг.? Странно выглядит этот рецидив прежней ненависти в 80-е гг., в период составления поминальных синодиков по ранее убиенным.
В этой же связи особенно неубедительно звучит рассуждение о запоздалом посмертном возвеличении в летописи бывшего главы Посольского приказа дьяка Ивана Висковатого, казненного Грозным в 1570 г. «за измену». В приписке к тексту Лицевого свода под 1553 г., повествующей о боярском мятеже, будто бы имевшем тогда место у постели больного царя, буквально пропет гимн верности Висковатого. Более того, как отмечает С. О. Шмидт, Висковатый дважды изображен в самом лучшем виде на миниатюрах, иллюстрирующих текст царской приписки о мятеже 1553 г. Из этого следует вполне естественный вывод о том, что приписки и миниатюры делались до того, как Висковатый попал в опалу и был казнен как злейший враг царя.
Этот факт создает немалые трудности для сторонников гипотезы о позднем происхождении приписок к Лицевому своду. С. О. Шмидт вынужден признать, что подобные тексты и иллюстрации не могли появиться «вскоре после опалы Висковатого». Как видим, выход из положения исследователь находит в слове «вскоре».
Да, сразу же после казни петь гимны своему врагу Иван Грозный не стал бы, а несколько позже — это, оказывается, возможно. Данная приписка — верный знак реабилитации Висковатого, замечает тем не менее Шмидт. Видимо, понимая шаткость своих рассуждений, исследователь вынужден оговориться: «Но даже и в таком случае остается не вполне понятным особое выпячивание положительной роли именно Висковатого. Думается, что это объясняется, в частности, тем, что при составлении вставок обращались не только к делопроизводственным документам, но и к каким-то летописным заготовкам тех лет, когда официальное летописание было делом Адашева и Висковатого». Что и требовалось доказать: содержание приписок, хотим мы этого или нет, все-таки восходит к 60-м гг. и не поддается усилиям передвинуть его в 80-с гг.
Еще Н. П. Лихачев обратил внимание на то, что книги статейных сношений с Польшей — записи переписки и всякого рода донесений дипломатов — под № 9 за 1570–1571 гг. и № 10 за 1575–1579 гг. написаны на такой же бумаге, на какой и лицевые своды. Зато книга № 11 написана уже на другой бумаге. Отсюда следует, что закупленная во Франции бумага была израсходована в основном на официальную парадную царскую летопись (около 16 тыс. листов), а небольшой остаток ее, когда работа над летописью прекратилась, был использован в Посольском приказе на две служебные книги, писавшиеся обычно на обыкновенной бумаге. Поскольку роскошная бумага была использована на служебные надобности впервые в 1570 г., естественно заключить, что работа над летописным сводом к этому моменту закончилась. Признавая правильность этого вывода, С. О. Шмидт тем не менее продолжает настаивать на том, что Лицевые своды создавались в конце 70-х — начале 80-х гг. [37] Шмидт С. О. Российское государство в середине XVT столетия: Царский архив и лицевые летописи времени Ивана Грозного. М., 1984. С. 193, примеч. 5.
Получается, что работа над царской Лицевой летописью закончилась раньше, чем началась. Верно-де и то, что в связи с ее окончанием остатки бултаги передали на другие нужды в 1570 г. (таково бесспорное время написания служебной книги № 9), но при этом «верно» и то, что работа только началась лет 10 спустя… Вот к каким трудностям порой приводит истолкование «мозговых знаков» источников в духе непременной заданности гипотезы.
Читать дальше