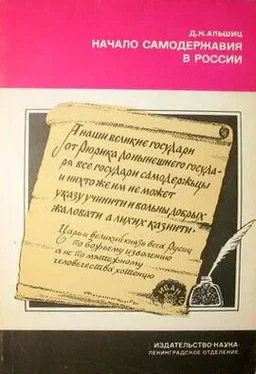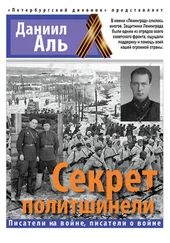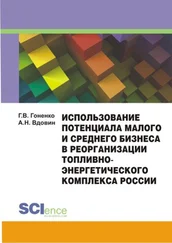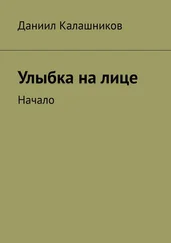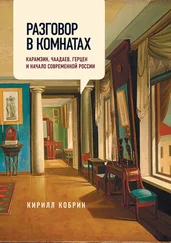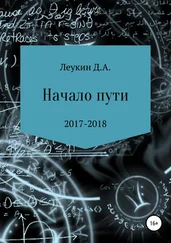Исключительный интерес в этой связи представляют собой впервые ставшие нам известными из Разрядной книги подлинные грамоты, написанные или продиктованные несомненно самим царем. Об этом свидетельствует их своеобразный стиль, присущий сочинениям Грозного, и даже самый тон державного окрика, обращенного к воеводам.
Перед тем как привести здесь целиком один из этих интереснейших документов, необходимо дать некоторые пояснения. В 1571 г. над Русью повеяли отравленные ветры чумы. Смертоносное поветрие накатывалось одновременно с юга — из Персии и с запада — из Германии.
На Руси того времени, вопреки ошибочным представлениям некоторых историков, хорошо понимали, что чума — это вовсе не «божье посещение грех ради наших», против которого бессмысленно и невозможно бороться, а эпидемическая болезнь, которую можно остановить, осилить и изгнать. Правда, об этом свидетельствовали до сих пор лишь редкие, отрывочные известия. Было, например, известно, что как раз в 1571 г. в Холмогорах в длительном карантине был задержан англичанин Дженкинсон. В летописях упоминается о противочумных мероприятиях тех лет в Новгороде.
Найденная царская грамота наглядно показывает, что борьба с эпидемиями в то время носила на Руси вполне осознанный характер, проводилась как важнейшее государственное мероприятие, направлялась и строго контролировалась из центра. Вот запись Разрядной книги, в которой воспроизведена грамота Грозного.
«Лета 7080 (1571) году, на Костроме были для поветрия моровова на заставе князь Михайло Федорович Гвоздев-Ростовский, да Дмитрей, да Данило Борисович Салтыковы. А с Костромы были в Свияжском. И от государя грамоты посланы на Кострому.
Список з грамоты от царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии на Кострому князю Михаилу Федоровичу Гвоздеву, да Дмитрею, да Данилу Борисовичам Салтыковым:
"Приехали, есте, на Кострому сентября в 26 день. И того месяца преставилось на Костроме семьдесят три человека до двадцать осьмого числа. А того, есте, к нам пе отписали подлинно: на Костроме ли, на посаде, или в Костромском уезде; и какою болезнью умерли — знаменем ли или без знамени (есть ли внешние признаки чумы. — Д. Л.). А ты, князь Михайло, почему к нам о поветрии не пишешь?! И послан ты на Кострому беречь для поветрея наперед Дмитрея и Данила Салтыковых. И ты для которово нашего дела послан, а ты забываешь, большая бражничаешь, и ты то воруешь! И как к вам ся наша грамота придет, и вы б отписали подлинно, на борзе: уж ли на Костроме, на посаде и в уезде от поветрея тишеет, и сколь давно, и с которова дни перестало тишеть? А буде от поветрея не тишеять, и вы б однолично поветреныя места велели крепить засеками и сторожами частыми, по первому нашему указу. И сами бы, естя, обереглись того накрепко, чтобы из поветреных мест в пеповетреные места не издили нихто, никаков человек, никоторыми делы. Чтоб вам однолично из поветреных мест на здоровые места поветрея не навезти — розни бы у вас в пашем деле однолично не было ни которые. А будет в вашем небрежении и рознью ис поветреных мест на здоровые места нанесет поветрия, и вам быть от нас самим сожжеными.
Писано в Слободе, лета 7080 году, октябре в 4 день"». [23] ГПБ, Эрм. собр., № 390, л. 370 об. — 371.
Вот и еще одна грамота, несомненно передающая живую речь самого Грозного:
«Список з государевы грамоты: "От царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии в Свияской дьяку нашему Грязному Ивашеву. Писал к нам из Свияского воевода наш князь Петр Буйносов Ростовской, что писали к нему с Федором Трубниковым, а велели дать воеводе князю Ивану Гагину детей боярских, и князь Петр Буйносов списки почел отдавать, и князь Иван-де у нево почел просить всех свияжских служивых тотар, и он-де, князь Петр, без нашего указу не дал ему тотар, и князь Иван-де ево лаел и безчестил и хотел ево ножницами в горло толкнуть; а то делолось перед вами на съезде, и ты б про то сыскал, каким обычаем мен; них делолось. А ты б еси князю Ивану перед князь Петром и перед головами стрелецкими именно (нашим именем. — Д. А.) от нас говорил: про что князь Иван воруят, а наше дело портит и теряет, перед нами измену делает?!" Писано на Москве, лета 7091-го (1583) майя в 20 день». [24] Там же.
Песня про царя Ивана Васильевича и купца…
Не правда ли, так и хочется подставить здесь имя лермонтовского героя — купца Степана Калашникова? И надо сказать, что это искушение, как оказывается, отнюдь не беспочвенно, хотя в подлинной песне (повести), о которой идет речь, стоит другое имя купца — Харитон Белоулин.
Читать дальше