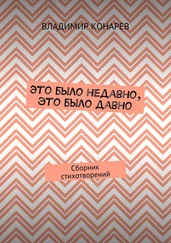Жилось спокойно, нудно, как на необитаемом острове. У меня, впрочем, было небольшое, но интересное занятие.
Мне разрешили, по предложению Географического Общества, построить метеорологическую второразрядную обсерваторию. Тогдашний директор Петербургской метеорологической обсерватории Янчевский прислал мне все необходимые для этого средства и инструменты, и я занялся сначала постройкой, а затем и ежедневными наблюдениями.
Утром, в полдень и вечером меня под конвоем выводили за ограду тюрьмы к метеорологической будке, и я делал необходимые наблюдения; затем в шахте, на разных глубинах, я выбурил глубокие дырки и держал в них особые термометры для исследования температуры в земле. Раз в месяц я делал сводку наблюдениям и посылал отчеты в Главную Метеорологическую Обсерваторию. Вся эта маленькая, но полезная работа представляла некоторый интерес, и уже позднее, в Чите, я в отчетах местного отдела Географического Общества напечатал работу о "Климате Забайкалья".
Но все это - и метеорология, и занятия с уголовными, и чтение - мало как-то утешало. Больший интерес представляло наблюдение над духовной жизнью невольных наших сожителей. По вечерам мы читали им вслух различные литературные произведения. Особенно охотно они слушали Шекспира и Достоевского. "Преступление и Наказание" пользовалось особым вниманием и любовью. Арестанты чувствовали в Достоевском великого знатока больной души, своей собственной души. Они готовы были без конца слушать произведения этого гениального писателя. Наоборот, когда мне приходилось читать небольшие брошюры, приспособленные для народа, арестанты всегда бывали недовольны.
- Чего пустое-то читать! Про нашу крестьянскую жизнь мы и сами довольно знаем. Это неинтересно, как люди плохо живут, ты нам душу вскрой человечью, да покажи, как надо жить по-хорошему. Разве это можно в маленькой книге прописать? Это все ни к чему!
Любопытно, что художественный вкус у арестантской массы решительно ничем не отличался от вкуса интеллигентных людей. То, что нами оценивается, как художественное, крупное литературное произведение, оценивалось совершенно так же, я бы сказал, по внутреннему художественному чутью, и уголовными нашими сожителями. Вся так называемая просветительная, народная литература, приспособленная, якобы, для народного понимания, пользовалась среди них определенной нелюбовью.
Шекспир, Гоголь, Достоевский, Чехов - их любимые писатели наряду с Толстым и Короленко. Этих авторов они с удовольствием и в высшей степени внимательно слушали, изучали, многое запоминали наизусть.
Лучшие моменты нашей жизни в Акатуе совпадают с возможностью, которая открывалась перед нами для умственного и нравственного влияния на уголовную массу. Трудно, конечно, учесть размеры нашего влияния, но несомненно, что нам удалось открыть перед ними то, что было им совершенно неизвестно, и пробудить большой интерес к бесконечному количеству новых и важных вопросов.
В 1895 году по другому манифесту процесс наш был пересмотрен в особом порядке, и наказание каторгой заменено "ссылкой на житье в Восточную Сибирь сроком на 10 лет со дня приговора". Таким образом летом 1895 года все осужденные по якутскому процессу подлежали высылке в Сибирь на житье до 7-го августа 1898 года, после чего мы должны были пробыть четыре года под надзором полиции во внутренних губерниях России, исключая столиц. Начинался новый период нашей жизни.
Тяжело было прощаться с товарищами, которые оставались на каторге. Бронислав Славянский, Николай Кочурихин, Гавриил Тищенко-Березнюк были нашим живым укором. Было как-то обидно и горько за них, не хотелось уезжать. Кажется, каждый из нас готов был остаться еще и еще в тюрьме. И действительно мы протянули еще две недели свою совместную с ними жизнь. Надо было отправляться. Был назначен день, прибыл конвой. Душа наша уже оторвалась от тюрьмы и летела туда, на волю, где нас опять ждет жизнь, борьба. От нее мы не отказались, о ней мечтали и уже строили тысячи планов.