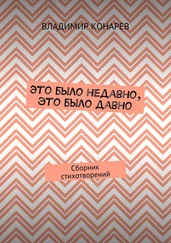О Минор - Это было давно
Здесь есть возможность читать онлайн «О Минор - Это было давно» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Это было давно
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Это было давно: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Это было давно»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Это было давно — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Это было давно», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Тут Кочурихин расплакался. Было ясно, что он поступил к нему на службу. Из дальнейших расспросов выяснилось, что жандармы поручили ему специально следить за той группой, с которой я был связан. Жалкий вид этого обманутого и не особенно разборчивого юнца вызывал в нас больше сожаления, чем озлобления, и мы решили в тот же день отправить его на родину, в Рыбинск, к родителям, взяв с него слово не возвращаться ни в Ярославль, ни вообще к службе у жандармов.
Прочли ему основательную нотацию, купили билет на пароход, сами свезли его на лодке в пристань и сторожили, пока пароход не отчалил. Мы были уверены, что этим закончится короткая мальчишески-необдуманная затея Кочурихина.[LDN1]
Читатель может себе представить, .как тяжело и непонятно было появление Кочурихина на каторге в качестве политического осужденного.
Открылись ворота тюрьмы, и я увидел именно этого самого Кочурихина. Первым его словом было:
- Я не могу, товарищи, подать вам руку прежде, чем вы не выслушаете меня. Я обязан предварительно объяснить свое прошлое и как я попал сюда.
Он подробно рассказал всю свою жизнь. После Рыбинска он уехал в Петербург, где прошел курсы бухгалтерии в школе Езерского и служил во многих учреждениях бухгалтером, писал в специальных изданиях и всячески отстранялся от революционной работы.
- Я решил во что бы то ни стало искупить свою вину. Подошел голодный 1892 год. В это время я заведывал земской бухгалтерией в Нижнем-Новгороде. Будучи по делам в Казани, я наткнулся на ужасный беспорядок в деле помощи голодающим крестьянам Казанской губернии. Крестьяне одной волости ходили за помощью из одного учреждения в другое без всякого результата. Вступился в дело и я. Написал им прошение в земскую управу - без результата. Написал губернатору ,опять ничего. Тогда я сговорился с товарищем А. И. Архангельским, и мы предложили крестьянам решительный план, выполнение которого должно было обратить внимание на их положение.
План этот состоял в том, что Кочурихин должен был произвести покушение на губернатора, а Архангельский - отправиться в волость вместе с ходоками, созвать сход и повести всех крестьян в помещичьи амбары забирать заготовленный хлеб.
Крестьяне на это не только согласились, но со слезами на глазах благодарили за такую помощь.
Результат обычный. Кочурихин выстрелил в губернатора на приеме и был арестован, а в волости при первой попытке разбирать амбары появилась полиция и задержала А. И. Архангельского... Потом военно-окружной суд и приговор: обоих к смертной казни. Их защищал известный уже тогда молодой адвокат М. Мандельштам, которому удалось добиться смягчения приговора - Кочурихину на бессрочную, а Архангельскому на 12 лет каторжных работ.
Рассказав нам все это, Кочурихин просил нас разрешить вопрос, можем ли мы его принять в свою среду, как товарища.
После короткого обсуждения, мы все единогласно решили предать забвению прошлое, считать его поступок в полной мере искупающим его вину и принять его в свою товарищескую среду.
Годы летели как стрела. Дни тянулись как смола. В России шла внутренняя глухая борьба во имя свободы. Наш процесс и каторга были в те времена таким большим событием, а количество политических каторжан так незначительно, что нас не забывали в России, ни заграницей. В английском парламенте был даже сделан запрос по поводу нашего дела, что имело серьезное влияние на нашу судьбу.
Малосрочные получили значительное сокращение сроков при объявлении в 1894 году манифеста по поводу какого-то события в царской семье, а нам, бессрочникам, был назначен срок в 20 лет каторги. Для нас это было малым утешением. 20 лет или 22 с половиной года, что полагалось бессрочникам, разница невелика.
Но все таки "вечность" и безусловность смерти в тюрьме или на поселении хуже, чем маленькая надежда, что через 8 лет выпустят в вольную команду, а через 14 - на поселение. Так полагалось по закону. В результате многие наши товарищи малосрочные были отправлены из тюрьмы на поселение. Остались только долгосрочные. Жизнь стала у нас тише. В каждой камере осталось только по одному политику среди 20-25 уголовных. Но обычай уже установил и в сознании начальства и в сознании арестантов, что политик - не уголовный. Надзиратели привыкли с нами обращаться вежливо. Арестанты ценили в нас своих учителей, успевших уже многих из них обучить грамоте, счету, истории и т. д. Но ценили нас и за то, что, когда к нам попадало немного денег, мы закупали махорку и делились со всей тюрьмой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Это было давно»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Это было давно» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Это было давно» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.