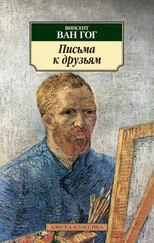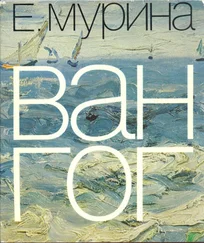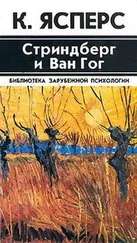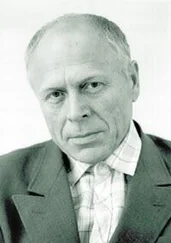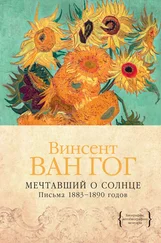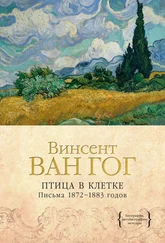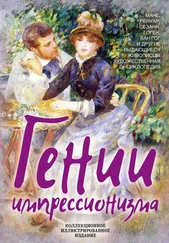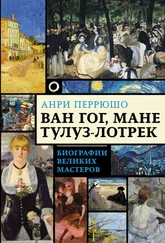Е Мурина - Ван Гог
Здесь есть возможность читать онлайн «Е Мурина - Ван Гог» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ван Гог
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ван Гог: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ван Гог»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ван Гог — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ван Гог», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Разумеется, здесь имел значение и сам факт возврата к великим мастерам, которые так много значили для него в Голландии, когда он стал художником. Не зря в самой трактовке формы, в стремлении выявить ее динамизм, подчеркнуть взаимосвязь круглящихся линий угадывается что-то родственное рисункам нюэненского периода.
Интерпретируя таким образом героев и сюжеты Священной истории, Ван Гог, пишущий эти картины исключительно для себя, поступает так же, как поступал, по его представлению, Рембрандт, когда писал библейские сюжеты, и метод которого он в письме к Бернару определил как "метафизическую магию". И он поясняет, что это такое на примере того, как Рембрандт якобы "писал ангелов": "Он делает портрет самого себя - беззубого, морщинистого старика в ночном колпаке, он пишет с натуры, по отражению в зеркале. Он грезит, грезит, и кисть его начинает воссоздавать его собственный портрет, но уже из головы, не с натуры, и выражение становится все более удрученным и удручающим. Он опять грезит, грезит, и вот, не знаю уж как и почему - не так ли это бывало у родственных ему гениев - Сократа и Магомета, Рембрандт пишет позади этого старца, схожего с ним самим, сверхъестественного ангела с улыбкой a la да Винчи" (Б. 12, 549).
Конечно, Ван Гог не удержался и попробовал написать вслед за Рембрандтом такого ангела 25, только появляющегося в лимонно-желтом сиянии из лилового мрака, соответственно его живописным вкусам - "Ангел" (полуфигура) (F624, местонахождение неизвестно).
Еще К. Ясперс отметил своеобразие этих копий: "Новой теперь является большая роль, которую для него играют копии с Милле, Делакруа и Рембрандта. Но эти копии, как переводы Гёльдерлина с греческого, - не настоящие копии, а оригинальные творения, в которых объект, будучи перенесен в совершенно новую атмосферу, является лишь поводом" 26. Свидетельство самого Ван Гога подтверждает это наблюдение: "Я использую черно-белые репродукции Делакруа или Милле как сюжеты. А затем я импровизирую цвет, хотя, конечно, не совсем так, как если бы делал это сам, а стараясь припомнить их картины. Однако это "припоминание", неопределенная гармония их красок, которая хотя и не точно, но все-таки ощущается, и есть моя интерпретация... "Копирование"... многому учит и - главное - иногда утешает. В таких случаях кисть ходит у меня в руках, как смычок по скрипке, и я работаю исключительно для собственного удовольствия" (607, 494).
За год жизни в Сен-Реми он делает повторения всего цикла рисунков Милле "Времена года" (десять штук), а также "Сеятеля" (F689, музей Крёллер-Мюллер; F690, Афины, частное собрание). Ван Гог, шедший, как мы знаем, за Милле, мечтал продолжить тему "человека, живущего на лоне природы" на "теперешнем юге". "Я сумел разглядеть на горизонте возможности новой живописи, но она оказалась мне не по силам", - пишет он Исааксону, имея в виду именно тот факт, что не "запечатлел на полотне обитателя теперешнего юга" (614-а, 580). Однако он может восполнить хотя бы частично эту потребность с помощью Милле. "Мне кажется, что делать картины по рисункам Милле означает скорее переводить их на другой язык, нежели копировать" (там же).
Что же это за язык, которым располагал Ван Гог?
Если у импрессионистов и Сезанна движение кисти и мазок раскрывают характер процесса наложения краски, как говорит Пикассо, "в ритме вдохновения", то у Ван Гога мазок обнаруживает его намерение раскрыть через фактуру не только "ритм", но и "смысл" вдохновения. В "южных" пейзажах она должна восприниматься, как сигнал бедствия (это касается и рисунков).
Все эти мазки, располагающиеся по поверхности картины, подобно железным опилкам, притягиваемым магнитом, сцеплены таким образом, что заключенное в душе художника напряжение реализуется в фактурном "шуме", становящемся навязчивым сигналом внутренних импульсов, духовной реальности, имеющем целью "заразить" нас состоянием и видением автора.
Вангоговские волюты, спирали, завихрения, сплетающиеся в динамичные орнаменты линии и штрихи, обладают важной функцией - сверхзначением, придающим изображению, как уже говорилось, характер символического знака или, точнее, шифра: не кипарис, а язык пламени; не звезда, а пылающий вихрь; не воздух, а спирали и смерчи; не скалы, а орнаментальный узор и т. п. Они складываются в образ человеческого самосознания среди непостижимых тайн бытия. Мистраль и пламя - вот аналоги возникающему у нас представлению о силах, формирующих эту красочную материю. Почти автоматическая зависимость движения руки от внутреннего состояния - чаще всего состояния беспокойства - придает этой "скорописи духа" волнующую подлинность.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ван Гог»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ван Гог» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ван Гог» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.