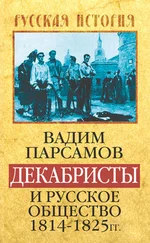1812 год. (Кратке).
Само собой разумеется, что подобного рода идеология мистического и национально-консервативного самоутверждения не охватывала всех течений русской общественной мысли, которые вызревали в ту же годину. Потрясение 12-го года показало России ее собственные до того дремавшие народные силы, возбудило интерес к политическим делам и вопросам, содействовало, между прочим, через журналистику зарождению публицистики, а вместе с ней и общественного мнения; не все же, наконец, выносили из опытов Отечественной войны самолюбование своим «изящным характером, на который ныне Европа смотрит, как изнеможенный старец на бодрость и силу цветущего юноши» (Прибавл. к «С. О.», 1813 г., № VII): лучшая часть дворянской молодежи извлекала из столкновения с Европой, из знакомства с ее бытом во время заграничных походов целый рой свежих, обновляющих идей и стремлений, для которых, однако, еще не пробил их урочный час и, конечно, ни в «Сыне Отечества», ни в других журналах того времени не нашлось бы свободных страниц.
Н. Сидоров

«Русский Сцевола». (Теребенев, «С. От.», 1813 г., кн.4).
III. Отголоски 12-го года в русской повести и романе
Н. П. Сидорова

М. А. Бестужев-Марлинский
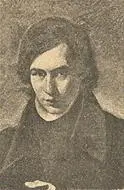
Н. В. Кукольник

М. Н. Загоскин

В. Т. Нарежный
 акой славный труд предстоит будущему творцу русской Илиады! — восклицает известный мемуарист Ф. Вигель, подводя итоги своим впечатлениям «чудесного» 12-го года. Российские «Гомеры» не заставили себя ждать; с 1813 года начали появляться разнообразные поэмы и эпические песни Телепнева, Глебова, неизвестного автора («Освобожденная Европа». Поэма, «В. Европы», № 3, 1813 г.); позднее — Павла Свечина («Александроида» в 6 песнях, М., 1827 г., первоначально отрывки в «Калужских вечерах», 1825 г.), Неведомского (1828 г.) и др. Каковы были эти поэмы, можно судить по тому, что даже весьма снисходительный к патриотическому парению ж. «Сын Отечества» (1814 г.), с неизбежным по тому времени выпадом против Наполеона, дал такую оценку одной из них («Наполеон в России» Телепнева, М., в тип. Селивановского, 1813 г.): «поэма, достойная своего героя. Столь же нелепая, безобразная, чудовищная в отношении к пиитическому достоинству, как Наполеон в отношениях к величию и нравственности». В лучшем случае все подобные произведения доказывали только искреннее патриотическое усердие их авторов. «Умчался век эпических поэм», и задача — в широкой картине охватить события знаменательной исторической годины, ее «дела и дни», — выпадала на долю повествовательной прозы, повести и романа. Прозаическое повествование начинало скромно, так сказать, с мелочей; оно выступило в форме эстетически непритязательных и наивных анекдотов, которых целью было — сообщать «геройские подвиги россиян» для ободрения живых и, еще более, в назидание потомков. Анекдоты эти помещались сначала в журналах «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Вестник Европы», а потом соединялись в сборники с очень выразительными заглавиями, напр.: «Анекдоты нынешней войны или ясное изображение мужества, великодушия, человеколюбия, привязанности к Богу, вере и государю российского народа; трусости, подлости, бесчеловечия, бессмыслия, зверства и непримиримого коварства французов» (Спб., 1813 г. Ср. подобный же сборник, «Анекдоты достопамятной войны»… С. Ушакова в 3 тт.). Из приведенного заголовка ясно видно, как распределяются краски в обрисовке обеих сторон. Мы остановимся только на изображении в анекдотах русских героев. Здесь перед нами и крупные фигуры Кутузова, Милорадовича, Раевского и скромный капитан Захаров, который, будучи тяжело ранен, скорбит лишь о том, что не может сражаться за отечество, и в предсмертные минуты спрашивает беспрерывно, наша ли победа; тут же и совсем безвестные подмосковные крестьяне, которых, за нападение на французских мародеров, расстреливают для острастки другим: они падают с молитвой на устах, без слез и стонов, так что враг приходит в трепет, поняв, «что никогда не покорит и не развратит сего геройского народа»; воины-поселяне (серпуховские, рузские, звенигородские и др.) и понамарь села Савенок, Сычевского у., Алексей Смирягин со своей особой командой; в «классических» позах русские Сцевола и Курций: один, отрубивший себе руку, заклейменную неприятелем, другой, бросающийся на французского полковника в надежде убить самого Наполеона, а рядом с ними простой русский повар, сражающийся с кирасирами наполеоновской гвардии; «Российский геркулес» бурмистр села Левшина, приперший могучим плечом дверь с 31 французом в избе, и популярная старостиха Василиса, которая ведет в город пленных и убивает косой французского офицера, приговаривая: «всем вам, ворам, собакам, будет то же… Уж я двадцати семи таким же вашим озорникам сорвала головы!» Излюбленными героями являются казаки, одного упоминания которых достаточно, чтобы навести панику на неприятеля.
акой славный труд предстоит будущему творцу русской Илиады! — восклицает известный мемуарист Ф. Вигель, подводя итоги своим впечатлениям «чудесного» 12-го года. Российские «Гомеры» не заставили себя ждать; с 1813 года начали появляться разнообразные поэмы и эпические песни Телепнева, Глебова, неизвестного автора («Освобожденная Европа». Поэма, «В. Европы», № 3, 1813 г.); позднее — Павла Свечина («Александроида» в 6 песнях, М., 1827 г., первоначально отрывки в «Калужских вечерах», 1825 г.), Неведомского (1828 г.) и др. Каковы были эти поэмы, можно судить по тому, что даже весьма снисходительный к патриотическому парению ж. «Сын Отечества» (1814 г.), с неизбежным по тому времени выпадом против Наполеона, дал такую оценку одной из них («Наполеон в России» Телепнева, М., в тип. Селивановского, 1813 г.): «поэма, достойная своего героя. Столь же нелепая, безобразная, чудовищная в отношении к пиитическому достоинству, как Наполеон в отношениях к величию и нравственности». В лучшем случае все подобные произведения доказывали только искреннее патриотическое усердие их авторов. «Умчался век эпических поэм», и задача — в широкой картине охватить события знаменательной исторической годины, ее «дела и дни», — выпадала на долю повествовательной прозы, повести и романа. Прозаическое повествование начинало скромно, так сказать, с мелочей; оно выступило в форме эстетически непритязательных и наивных анекдотов, которых целью было — сообщать «геройские подвиги россиян» для ободрения живых и, еще более, в назидание потомков. Анекдоты эти помещались сначала в журналах «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Вестник Европы», а потом соединялись в сборники с очень выразительными заглавиями, напр.: «Анекдоты нынешней войны или ясное изображение мужества, великодушия, человеколюбия, привязанности к Богу, вере и государю российского народа; трусости, подлости, бесчеловечия, бессмыслия, зверства и непримиримого коварства французов» (Спб., 1813 г. Ср. подобный же сборник, «Анекдоты достопамятной войны»… С. Ушакова в 3 тт.). Из приведенного заголовка ясно видно, как распределяются краски в обрисовке обеих сторон. Мы остановимся только на изображении в анекдотах русских героев. Здесь перед нами и крупные фигуры Кутузова, Милорадовича, Раевского и скромный капитан Захаров, который, будучи тяжело ранен, скорбит лишь о том, что не может сражаться за отечество, и в предсмертные минуты спрашивает беспрерывно, наша ли победа; тут же и совсем безвестные подмосковные крестьяне, которых, за нападение на французских мародеров, расстреливают для острастки другим: они падают с молитвой на устах, без слез и стонов, так что враг приходит в трепет, поняв, «что никогда не покорит и не развратит сего геройского народа»; воины-поселяне (серпуховские, рузские, звенигородские и др.) и понамарь села Савенок, Сычевского у., Алексей Смирягин со своей особой командой; в «классических» позах русские Сцевола и Курций: один, отрубивший себе руку, заклейменную неприятелем, другой, бросающийся на французского полковника в надежде убить самого Наполеона, а рядом с ними простой русский повар, сражающийся с кирасирами наполеоновской гвардии; «Российский геркулес» бурмистр села Левшина, приперший могучим плечом дверь с 31 французом в избе, и популярная старостиха Василиса, которая ведет в город пленных и убивает косой французского офицера, приговаривая: «всем вам, ворам, собакам, будет то же… Уж я двадцати семи таким же вашим озорникам сорвала головы!» Излюбленными героями являются казаки, одного упоминания которых достаточно, чтобы навести панику на неприятеля.
Читать дальше
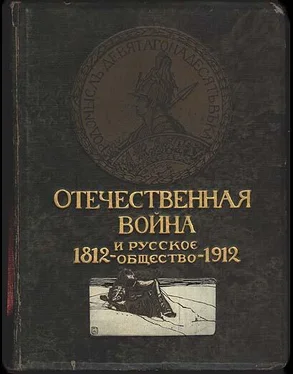



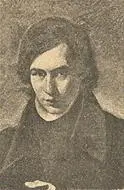


 акой славный труд предстоит будущему творцу русской Илиады! — восклицает известный мемуарист Ф. Вигель, подводя итоги своим впечатлениям «чудесного» 12-го года. Российские «Гомеры» не заставили себя ждать; с 1813 года начали появляться разнообразные поэмы и эпические песни Телепнева, Глебова, неизвестного автора («Освобожденная Европа». Поэма, «В. Европы», № 3, 1813 г.); позднее — Павла Свечина («Александроида» в 6 песнях, М., 1827 г., первоначально отрывки в «Калужских вечерах», 1825 г.), Неведомского (1828 г.) и др. Каковы были эти поэмы, можно судить по тому, что даже весьма снисходительный к патриотическому парению ж. «Сын Отечества» (1814 г.), с неизбежным по тому времени выпадом против Наполеона, дал такую оценку одной из них («Наполеон в России» Телепнева, М., в тип. Селивановского, 1813 г.): «поэма, достойная своего героя. Столь же нелепая, безобразная, чудовищная в отношении к пиитическому достоинству, как Наполеон в отношениях к величию и нравственности». В лучшем случае все подобные произведения доказывали только искреннее патриотическое усердие их авторов. «Умчался век эпических поэм», и задача — в широкой картине охватить события знаменательной исторической годины, ее «дела и дни», — выпадала на долю повествовательной прозы, повести и романа. Прозаическое повествование начинало скромно, так сказать, с мелочей; оно выступило в форме эстетически непритязательных и наивных анекдотов, которых целью было — сообщать «геройские подвиги россиян» для ободрения живых и, еще более, в назидание потомков. Анекдоты эти помещались сначала в журналах «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Вестник Европы», а потом соединялись в сборники с очень выразительными заглавиями, напр.: «Анекдоты нынешней войны или ясное изображение мужества, великодушия, человеколюбия, привязанности к Богу, вере и государю российского народа; трусости, подлости, бесчеловечия, бессмыслия, зверства и непримиримого коварства французов» (Спб., 1813 г. Ср. подобный же сборник, «Анекдоты достопамятной войны»… С. Ушакова в 3 тт.). Из приведенного заголовка ясно видно, как распределяются краски в обрисовке обеих сторон. Мы остановимся только на изображении в анекдотах русских героев. Здесь перед нами и крупные фигуры Кутузова, Милорадовича, Раевского и скромный капитан Захаров, который, будучи тяжело ранен, скорбит лишь о том, что не может сражаться за отечество, и в предсмертные минуты спрашивает беспрерывно, наша ли победа; тут же и совсем безвестные подмосковные крестьяне, которых, за нападение на французских мародеров, расстреливают для острастки другим: они падают с молитвой на устах, без слез и стонов, так что враг приходит в трепет, поняв, «что никогда не покорит и не развратит сего геройского народа»; воины-поселяне (серпуховские, рузские, звенигородские и др.) и понамарь села Савенок, Сычевского у., Алексей Смирягин со своей особой командой; в «классических» позах русские Сцевола и Курций: один, отрубивший себе руку, заклейменную неприятелем, другой, бросающийся на французского полковника в надежде убить самого Наполеона, а рядом с ними простой русский повар, сражающийся с кирасирами наполеоновской гвардии; «Российский геркулес» бурмистр села Левшина, приперший могучим плечом дверь с 31 французом в избе, и популярная старостиха Василиса, которая ведет в город пленных и убивает косой французского офицера, приговаривая: «всем вам, ворам, собакам, будет то же… Уж я двадцати семи таким же вашим озорникам сорвала головы!» Излюбленными героями являются казаки, одного упоминания которых достаточно, чтобы навести панику на неприятеля.
акой славный труд предстоит будущему творцу русской Илиады! — восклицает известный мемуарист Ф. Вигель, подводя итоги своим впечатлениям «чудесного» 12-го года. Российские «Гомеры» не заставили себя ждать; с 1813 года начали появляться разнообразные поэмы и эпические песни Телепнева, Глебова, неизвестного автора («Освобожденная Европа». Поэма, «В. Европы», № 3, 1813 г.); позднее — Павла Свечина («Александроида» в 6 песнях, М., 1827 г., первоначально отрывки в «Калужских вечерах», 1825 г.), Неведомского (1828 г.) и др. Каковы были эти поэмы, можно судить по тому, что даже весьма снисходительный к патриотическому парению ж. «Сын Отечества» (1814 г.), с неизбежным по тому времени выпадом против Наполеона, дал такую оценку одной из них («Наполеон в России» Телепнева, М., в тип. Селивановского, 1813 г.): «поэма, достойная своего героя. Столь же нелепая, безобразная, чудовищная в отношении к пиитическому достоинству, как Наполеон в отношениях к величию и нравственности». В лучшем случае все подобные произведения доказывали только искреннее патриотическое усердие их авторов. «Умчался век эпических поэм», и задача — в широкой картине охватить события знаменательной исторической годины, ее «дела и дни», — выпадала на долю повествовательной прозы, повести и романа. Прозаическое повествование начинало скромно, так сказать, с мелочей; оно выступило в форме эстетически непритязательных и наивных анекдотов, которых целью было — сообщать «геройские подвиги россиян» для ободрения живых и, еще более, в назидание потомков. Анекдоты эти помещались сначала в журналах «Сын Отечества», «Русский Вестник», «Вестник Европы», а потом соединялись в сборники с очень выразительными заглавиями, напр.: «Анекдоты нынешней войны или ясное изображение мужества, великодушия, человеколюбия, привязанности к Богу, вере и государю российского народа; трусости, подлости, бесчеловечия, бессмыслия, зверства и непримиримого коварства французов» (Спб., 1813 г. Ср. подобный же сборник, «Анекдоты достопамятной войны»… С. Ушакова в 3 тт.). Из приведенного заголовка ясно видно, как распределяются краски в обрисовке обеих сторон. Мы остановимся только на изображении в анекдотах русских героев. Здесь перед нами и крупные фигуры Кутузова, Милорадовича, Раевского и скромный капитан Захаров, который, будучи тяжело ранен, скорбит лишь о том, что не может сражаться за отечество, и в предсмертные минуты спрашивает беспрерывно, наша ли победа; тут же и совсем безвестные подмосковные крестьяне, которых, за нападение на французских мародеров, расстреливают для острастки другим: они падают с молитвой на устах, без слез и стонов, так что враг приходит в трепет, поняв, «что никогда не покорит и не развратит сего геройского народа»; воины-поселяне (серпуховские, рузские, звенигородские и др.) и понамарь села Савенок, Сычевского у., Алексей Смирягин со своей особой командой; в «классических» позах русские Сцевола и Курций: один, отрубивший себе руку, заклейменную неприятелем, другой, бросающийся на французского полковника в надежде убить самого Наполеона, а рядом с ними простой русский повар, сражающийся с кирасирами наполеоновской гвардии; «Российский геркулес» бурмистр села Левшина, приперший могучим плечом дверь с 31 французом в избе, и популярная старостиха Василиса, которая ведет в город пленных и убивает косой французского офицера, приговаривая: «всем вам, ворам, собакам, будет то же… Уж я двадцати семи таким же вашим озорникам сорвала головы!» Излюбленными героями являются казаки, одного упоминания которых достаточно, чтобы навести панику на неприятеля.