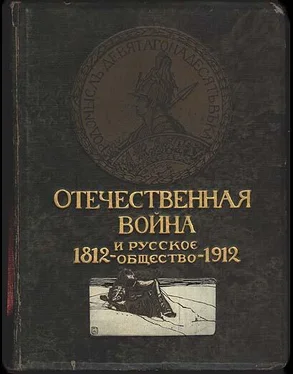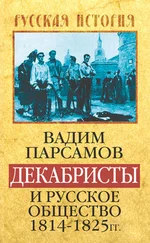Таким образом, уже в середине прошлого века, благодаря сначала иностранцам, а потом русским художникам (но все-таки иностранного происхождения), появился целый ряд портретов и картин, так или иначе, связанных по содержанию своему с «Отечественной войной». Но мы видели, что в этих картинах были затронуты только отдельные эпизоды, притом большей частью из второго периода этой войны, когда наши войска были за границей — в пределах Германии и Франции. Замечательно еще то, что главный герой этой войны — Наполеон — почти нигде не фигурирует на этих картинах. Первый период войны — борьба русских с полчищами Наполеона, пребывание французов в Москве и обратный поход их, — кроме карикатур и картинок Теребенева, Венецианова и Иванова — почти не был затронут художниками до появления знаменитых картин Верещагина. Нося довольно случайный характер, эти картины доверещагинского периода не выясняли, так сказать, основной идеи этой ужасной — по количеству жертв и масс человеческих страданий — войны. Казалось, что для таких художников, как Виллевальде и их последователей, эта идейная сторона была лишней. Впрочем, виноваты в этом не они лично. Такова была батальная школа живописи того времени, они же были только талантливыми представителями ее.

Вдова генер. Тучкова ищет тело своего мужа. (Матвеев).
Эпоха великих реформ внесла, как известно, большое оживление во все сферы русской жизни. Живопись тоже не осталась чуждой этого влияния и стала сначала приближаться к жизни, стремясь возможно реальнее изображать ее, а затем начала трактовать ее с той или иной общественной точки зрения. В последнем случае идея добра (в широком смысле слова) ставилась выше всех других принципов.
Стремление художников к реализму в интересующей нас области — батальной живописи — выразилось в том, что они стали относиться к войне иначе, чем, например, Зауэрвейд или его ученик Виллевальде. Они поняли, что слишком односторонне трактовать войну только как ряд эффектных эпизодов, героических подвигов и красивых положений, и начали изображать ее без всяких прикрас, без сокрытия печальных сторон, — такой, какой она представляется в действительности.
Уже вышеупомянутый художник Коцебу был во многом не согласен со своим учителем Зауэрвейдом и в своих картинах приблизился до известной степени к реальному изображению войны. Но ему не хватало, как мы видели выше, одного — это понимания русского человека вообще и солдата в частности. Изображай Коцебу, например, войну франко-прусскую, он, несомненно, был бы еще реальнее, чем в своих картинах на темы из русских походов. Верному изображению войны много мешало и то, что наши первые баталисты никогда не видали войны со всеми ее ужасами и писали свои картины не с натуры, а в своих мастерских, больше всего полагаясь на собственное воображение, да на героические рассказы уцелевших участников войны.
Неверному изображению войны много способствовала и наша литература. Марлинский, поэт-партизан Давыдов, даже Пушкин и Лермонтов дали русскому обществу неверное представление о сражениях и воинских подвигах вообще.
Подобные гиперболические картины войны рисовали и наши баталисты, пока не появились такие правдивые произведения, как «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, давшие настоящее представление о войне. Вообще, надо сказать, что Севастопольская кампания, послужившая толчком для великих реформ, сыграла важную роль в литературе и искусстве. Признаки нового понимания художниками войны, как общественного явления, можно найти в знаменитом «Русском художественном листке» В. Ф. Тимма, издававшемся с 1851 по 1862 г. Тимм, — учившийся сначала у Зауэрвейда, а потом у знаменитого французского баталиста Ораса Вернэ, давшего много великолепных, реально написанных картин из эпохи Наполеона Бонапарта, — был один из первых наших реальных баталистов. Из эпохи Отечественной войны он не дал картин, так как интересовался больше всего современными событиями. Мало дали и другие художники, современники и последующие поколения, увлеченные большей частью изображением новых войн и окружающей их действительности. Баталист К. Н. Филиппов дал на интересующую нас тему только картину «Казаки, отбивающие у французов обоз в 1812 году», П. А. Федотов — картину «Французские мародеры в русской деревне в 1812 году», А. И. Шарлеман — «Эпизод из битвы под Аустерлицем» (эту картину, конечно, только с большой натяжкой можно отнести к интересующей нас эпохе), П. О. Ковалевский — картину «Первый день сражения под Лейпцигом в 1813 году», А. Д. Кившенко — «Суд над Верещагиным» и «Военный совет в деревне Филях» — картину, создавшую художнику большую известность, М. О. Микешин — «Лейпцигский бой», Н. С. Матвеев — две интересные картины: «Тучкова ищет труп мужа» и «Король прусский благодарит имп. Александра» и Н. С. Самокиш — «Эпизод из битвы под Малоярославцем в 1812 г.», «Русская кавалерия, возвращающаяся после атаки на неприятеля в 1812 г.» и др. В стороне от упомянутых художников стоят Айвазовский, Сведомский и А. К. Саврасов. Первые двое дали по картине на тему «Пожар Москвы», а третий — «Кутузовскую избу».
Читать дальше