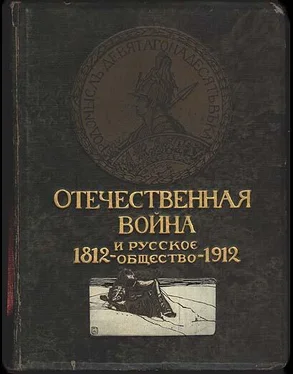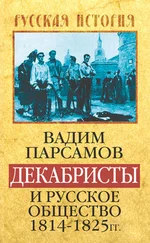Гораздо плодовитее оказались иностранцы. Не говоря уже о том, что во Франции, в Германии и Англии появились в огромном количестве картины, иллюстрирующие различные события эпохи наполеоновских войн, — целый ряд иностранных художников предлагал свои услуги России изобразить в картинах главнейшие подвиги русских героев, дать их портреты и вообще увековечить «Отечественную войну» при помощи кисти или резца. Один предлагает «выгравировать 14 картин с фронтисписом, кои представлять будут 14 достославнейших побед, одержанных российскими войсками в продолжение бывшей в 1812 году кампании», другой (Дезарно) — «воин наполеоновской армии» — за картину на сюжет из этой войны получает звание русского академика, третий (итальянец Карделли) удостоен звания гравера Его Величества за портреты героев войны 12 года и гравюры с картин другого итальянца — Д. Скотти, четвертый, тоже итальянец (Вендрамини), издавший «Галерею гравированных портретов» деятелей войны, получил звание академика, а впоследствии был возведен в звание профессора гравирования. И таких примеров можно было бы привести еще несколько. Упомянем еще курляндца А. Зауэрвейда, приглашенного в 1814 г. имп. Александром для исполнения картин военного содержания и сделавшегося впоследствии влиятельным профессором батальной живописи в Академии Художеств. Но русские художники той эпохи — повторяем — иллюстрировали «Отечественную войну» чрезвычайно скудно. А как только кончилось с взятием Парижа это бурное время, так утомившее все народы Европы, во всех странах — в России же в особенности — почувствовалась такая потребность в отдыхе, что всем «захотелось, по удачному выражению бар. Врангеля [166], сидеть на солнце и отдыхать от ужасов прошлого». Конечно, такое настроение русского общества не могло способствовать появлению художников, которые восполнили бы тот пробел в русском искусстве, который допустили их предшественники. Тихая, уютная жизнь должна была сказаться и в живописи. И действительно, мирный сельский пейзаж и жанр стали развиваться с большой быстротой, а батальная живопись была почти совсем забыта. В таком положении оставалось дело до конца царствования имп. Александра I.

(Медальон гр. Толстого 1817 г. С издания 1838 г.; гр. Менцова).
Другой характер приняла наша живопись в эпоху имп. Николая Павловича, который был большим поклонником батального жанра и покровительствовал художникам баталистам. Упомянутый выше Зауэрвейд и его ученики — Пиратский и особенно Виллевальде и Коцебу — дали целую массу батальных картин, правда, не всегда жизненных, но все же отличающихся известными достоинствами, среди которых главнейшее — это точное воспроизведение форм одежды, вооружения и обстановки вообще.
Из эпохи «Отечественной войны» значительное число картин дал Б. П. Виллевальде. Получив в 1848 году звание профессора Академии Художеств за картины: «Сражение при Гисгюбле» и «Сражение при Париже», он, между прочим, дал целый ряд картин, посвященных пребыванию русских войск за границей во время похода против Наполеона в 1813–1815 гг. Из них особенно интересны: «Александр I в Дрездене на террасе Брюля», «Александр I в лагере башкирского войска на Бельвильских высотах в Париже, в 1814 г.», «Башкиры во Франции в 1814 г.», «Казаки при Бауцене в 1813 г.», «Лейб-гусар и савояры», «Казаки везде дома» и мн. других. Все эти картины принадлежат кисти, несомненно, талантливого и притом образованного художника, который серьезно готовился к каждой своей картине путем чтения мемуаров и изучения географической и исторической обстановки. Не его вина, если его произведения слишком эффектны и блестящи, если они красивее, чем сама жизнь, давшая ему тот или иной сюжет. На его картинах многое прикрашено; глядя на них, так и кажется, что художник хотел скрыть ужасы войны и выдвинуть на первый план ее поэзию. Как бы то ни было, картины Виллевальде дают хороший материал для ознакомления со многими эпизодами эпохи Отечественной войны.
В области русской батальной живописи сыграл также важную роль и А. Е. Коцебу, учившийся подобно Виллевальде у Зауэрвейда и пользовавшийся покровительством имп. Николая Павловича. Большая часть его картин, как и других баталистов, находится в галерее Зимнего дворца. Довольно полную, хотя и краткую, характеристику Коцебу дает А. Сомов. Этот высоко даровитый баталист трактовал свои сюжеты «не только как сцены борьбы и убийства, но и как пейзажные задачи». Для своей картины он прежде всего выбирал местность и точку зрения, наиболее благодарные для развития изображаемого эпизода, и представлял в этом пейзаже самый характерный момент происшествия с ясностью и неподдельным движением. «Его композиция полна жизни и нередко очень поэтична, рисунок правилен, колорит блестящ и гармоничен, кисть свободна и одинаково искусна как в фигурах, так и в ландшафте». Однако тот же А. Сомов совершенно правильно указывает, что фигуры русских солдат у Коцебу недостаточно народны. К этому надо еще прибавить, что во всем творчестве этого художника, немца по крови, воспитавшегося под влиянием иностранца Зауэрвейда, вообще много нерусского. Это особенно ясно при сравнении его картин с произведениями, например, Верещагина. В рассматриваемой нами области «Отечественная война в живописи» Коцебу, однако, сделал не так много. Дав целый ряд картин, посвященных семилетней войне и Суворовским походам, — он отдавал изображению Отечественной войны, по-видимому, только свои досуги.
Читать дальше