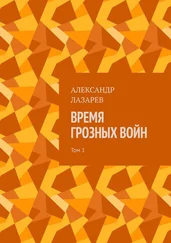Шурин царевича Федора удостоился пока не боярского, а дворцового чина, но уже такого, который носили представители знатнейших фамилий. Медленно, но уверенно двигался вперед по «лестнице славы» молодой честолюбец. Первый шаг он сделал в конце 60-х годов, поступив в опричнину; второй — в начале 70-х, став зятем Малюты; третий — в 1575 г., выдав сестру за царевича Федора, и вот в 1576 г. взошел уже на четвертую ступеньку.
Земская дума пополнялась медленно. К сентябрю — октябрю 1576 г. окольничими стали Ф. В. Шереметев и В. Ф. Воронцов [162] РК 1475–1598 гг., с. 273; РК 1559–1605 гг., с. 137 (Шереметев); Савва, с. 116; Боярские списки, ч. 1, с. 84.
.
Обеспечивался «удел» не только за счет земель, ему непосредственно подведомственных, но и путем поборов из казны Симеона. В мае 1576 г., отправляясь в поход «на берег» (в Калугу), Иван Московский написал «великому князю всея Руси» очередную челобитную. В ней говорилось, что князю Ивану предписана «твоя государева служба на берегу». В связи с его просьбой дать «на подъем» ему была пожалована огромная сумма денег (40 тыс. руб.) [163] РК 1559–1605 гг., с. 121; ПСРЛ, т. 34, с. 226.
.
По словам Горсея, Грозный «заставил своих подданных обращаться со своими делами, прошениями и тяжбами к Симеону, под его именем выходили все указы, пожалования, заявления». Царь сам приходил «бить ему челом и приказывал митрополитам, знати и чиновникам делать то же, что и он, а всем послам обращаться к Симеону с теми же почестями». Это позволило царю «отвергнуть все долги, сделанные за его царствование, — патентные письма, пожалования городам, монастырям — все аннулировать». Симеону «собирались подати, налоги и другие доходы на содержание его двора, стражи и слуг, он был ответственен также за все долги и дела, касавшиеся казны». В описи дел Посольского приказа 1626 г. упоминается «столпик 7084-го году, а в нем наказы приказным людем по городом при великом князе Семионе Бекбулатовиче всеа Русии». Права Симеона были сильно ограничены. С. М. Каштанов показал, что он был лишен даже права выдачи жалованных грамот монастырям (несмотря на то что, по Горсею, получается вроде не так). В январе 1576 г. Грозный говорил английскому гонцу Сильвестру: «Мы не настолько отказались от царства, чтобы нам нельзя было, когда будет угодно, вновь принять сан». Ведь Симеон «еще не утвержден обрядом венчания и назначен не по народному избранию, а по нашему соизволению» [164] Севастьянова, с. 97; ОАПП, ч. I, с. 258; Толстой, № 40, с. 188.
.
После того как сказаны были эти слова, прошло всего несколько месяцев, и Симеон в августе 1576 г. был сведен с великокняжеского престола, получив в удел Тверь и Торжок [165] Дата ликвидации «великого княжения» Симеона не вполне ясна. Как великий князь всея Руси Симеон упоминается еще 27 июня 1576 г. (Самоквасов, т. II, с. 444), но уже 2 сентября в подведомственную ему ранее Обонежскую пятину грамоты посылал Иван IV (РИБ, т. 32. Пг., 1925, стлб. 539–540). Однако в грамоте Грозного в Обонежскую пятину от 30 марта 1577 г. упоминается, что туда 13 сентября 1576 г. писал еще Симеон (Корецкий. Собор и возрождение, с. 43). По В. И. Корецкому, до середины сентября 1576 г. Симеон продолжал находиться на «великом княжении». Но его объяснение факта посылки Грозным грамоты Вяжицкому монастырю 2 сентября (привезена в Новгород 10 октября 1576 г.) весьма неопределенно: речь якобы должна идти или об особенностях «политики Грозного по отношению к монастырям», или о подготовке к ликвидации «великого княжения» Симеона (Корецкий. Собор и возрождение, с. 43).
. Государем «всея Руси» пробыл он всего около года [166] В разрядах говорится, что на «великом княжении» Симеон «сидел год один» (Щ, л. 507 об.; ср. РК 1559–1605 гг., с. 142). По Пискаревскому летописцу, «жития его было 3 год и больши» (ПСРЛ, т. 34, с. 192). И только в начале XVII в. Маржерет ошибочно писал, что Симеон «правил целых два года» (Маржерет, с. 149).
. При ликвидации «удела» Ивана Московского личный состав его вошел в государев Двор, который сохранял связи с землями, составлявшими материальную базу «удела».
Согласно Д. Горсею, деление страны на «великое княжество» Симеона и владения Грозного было уничтожено по просьбе «чинов» страны; «духовенство, знать и простое сословие (common) должны были теперь идти к Ивану Васильевичу с прошением смилостивиться и вновь принять венец и управление; он согласился на многочисленных условиях и с утверждением указом парламента (by act of parliament), с торжественным посвящением его на царство. Чтобы его умилостивить, все подданные любого положения изыскивали средства на дары и подношения ему, это принесло ему огромное богатство. Он был освобожден от всех старых долгов и всех прошлых обязательств». Мало того, «вновь составленные грамоты, судебные законы, пожалования монастырям, городам, отдельным лицам и купцам давали ему еще большие суммы и доходы». Этот рассказ в своей основе считается достоверным [167] Севастьянова, с. 97; Скрынников. Россия, с. 36, 38.
. Но никаких подтверждений ему в других источниках нет. Изучение тарханной политики в 1576–1577 гг., проведенное С. М. Каштановым, как будто свидетельствует о недостоверности сведений Горсея, во всяком случае в части о монастырских привилегиях. С. О. Шмидт полагал, ссылаясь на Горсея, что осенью 1576 г. имел место Земский собор (в связи с концом «маскарада»), но, на наш взгляд, прав Л. В. Черепнин, считавший его доводы шаткими [168] Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики, с. 150–217; Шмидт, с. 255; Черепнин, с. 118–119.
.
Читать дальше
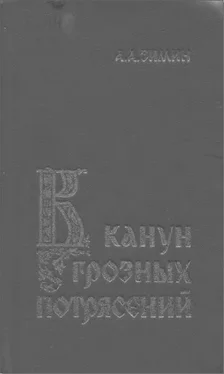
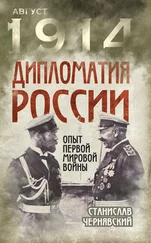

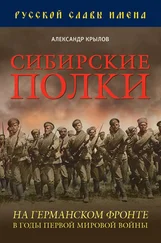
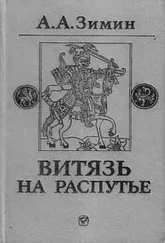




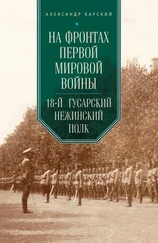
![Сергей Лавренов - Европа и Россия в огне Первой мировой войны [К 100-летию начала войны]](/books/411139/sergej-lavrenov-evropa-i-rossiya-v-ogne-pervoj-mirovoj-vojny-k-100-letiyu-nachala-vojny-thumb.webp)