Тем не менее, уже в середине 50-х гг. XIX в. Россия должна была вернуться к политике активного взаимодействия с западным ученым миром. В период общественного подъема накануне Великих реформ «университетский вопрос» вновь занял первостепенное значение для развития российского общества и государства. В обсуждении проблем развития высшего образования в России приняли участие видные ученые и общественные деятели, которые в предшествующее время сами получили возможность познакомиться с разными университетскими моделями Европы. Многие из них отстаивали чистоту университетской идеи по примеру Германии и, таким образом, впервые в российской публицистике прямо защищали необходимость развития в России черт «классического университета» [649] Эймонтова Р. Г. Русские университеты на путях реформы: Шестидесятые годы XIX века. М., 1993. С. 81.
.
Итак, для русских студентов в немецких университетах первая половина XIX века была столь же важной и плодотворной эпохой, как и предшествующая ей «золотая пора», хотя общее количество этих студентов в царствование Александра I и Николая I существенно уступало екатерининскому времени. Негативные воздействия на динамику развития студенческих поездок оказали наполеоновские войны и запрет на обучение в некоторых немецких университетах, изданный русским правительством в конце 1810 — начале 1820-х гг. После Отечественной войны практически полностью исчезло такое явление как путешествия в немецкие университеты российских дворян-аристократов, служившие частью их образования за границей. Одновременно значительно возрос вклад государства в организацию студенческих поездок (в относительном исчислении он в первой половине XIX в. составлял до четверти от всех поездок, или около 60 %, если не учитывать студентов, происходивших из российских немцев), благодаря чему, в частности, в социальном составе студентов в этот период преобладали недворяне. В результате этих усилий государства в немецких университетах первой половины XIX в. были подготовлены десятки профессоров, преподававших затем в российских университетах и других высших учебных заведениях. При этом преобладающее значение для России имели два университета: Гёттингенский в первое десятилетие XIX в. и Берлинский в 1830—1840-е гг. Переход эстафеты от Гёттингена к Берлину был связан с принципиальными изменениями университетской системы в Германии и утверждением в ней типа «классического» или «гумбольдтовского» университета; в то же время ориентация русских студентов и на Гёттинген, и на Берлин показывала их тягу к центрам фундаментального научного знания, где современная наука не только преподавалась, но и развивалась. Влияние этих центров на русскую науку, прежде всего, сказалось в области филологии, истории, политико-экономических наук, а позднее охватило и широких спектр естественных наук. Благодаря Берлинскому университету в России возникла новая школа в юриспруденции, распространившаяся на все без исключения университеты. Все эти происходившие научные изменения были объединены общностью методологии, базировавшейся на трудах немецких философов, прежде всего Г. Ф. Гегеля и Ф. В. Шеллинга. Немецкая наука смогла передать в Россию тягу к «идеалу», представления о лежащих в основе каждого явления общих «идеях», что сыграло свою важную роль не только в области научных теорий, но и в общественной жизни России, куда органично влились выпускники немецких университетов. И подобно тому как русские «гёттингенцы» определяли в общественном сознании начала XIX в. облик либерала-мечтателя, так и питомцы Берлинского университета создали новый облик русского профессора 1830—1840-х гг. — не просто ученого, но «властителя дум», кумира студенческой молодежи. Из созданных же многими из них научных школ в последующем развивалась отечественная университетская наука второй половины XIX в.
В настоящем исследовании на новых, впервые вводимых в отечественную историографию массовых источниках по истории студенчества (матрикулах), а также отчетах, мемуарах, письмах русских студентов было показано изменение характера их обучения в немецких университетах от возникновения русского студенчества как такового в эпоху петровских реформ до середины XIX века.
Петр I, открыв перед россиянами возможность получения европейского университетского образования, смог привлечь к нему несколько семей из своего ближайшего окружения, отправил в Кёнигсберг три десятка юношей, из которых хотел создать будущих чиновников, но, в целом, еще не вызвал в русском обществе подлинного интереса к университетам, цели обучения в которых оставались непонятными, хотя видные немецкие ученые, такие как А. Г. Франке и X. Вольф, сделали многое, чтобы перенести европейские представления о высшем образовании в Россию. С середины 1730-х гг. начались первые командировки студентов Петербургской академии наук в Германию, и, таким образом, появилась задача воспитания там будущих русских ученых, хотя первоначально их скромные масштабы еще не могли говорить о серьезном общественном отклике и усвоении Россией ценностей университетов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
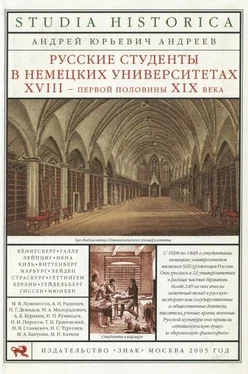





![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/420907/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya-thumb.webp)





