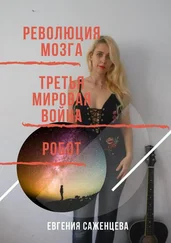О том, что сговор с Гитлером был подготовлен не только внешней, но и внутренней политикой сталинизма, говорилось и в воспоминаниях Хильгера, который указывал на оправданность «предположения, что без предпринятой Сталиным широкомасштабной чистки государственного аппарата и партии союз между ним и Гитлером едва ли бы смог возникнуть из-за оппозиции со стороны Бухарина, Радека, Крестинского, Зиновьева, Раковского и им подобных» [633].
После подписания пакта перед Сталиным оставалась задача, которую, впрочем, он не считал сложной и обременительной: поставить точку на англо-франко-советских переговорах.
25 августа английская и французская делегации в последний раз встретились с Ворошиловым. Ошеломлённые сообщением о подписании советско-германского договора, руководители западных миссий спросили, не хочет ли советская сторона продолжить обсуждение военной конвенции. Ответ Ворошилова был лаконичен: ввиду изменившегося политического положения нет смысла продолжать это обсуждение [634]. В тот же день обе миссии отбыли из Москвы.
27 августа было опубликовано интервью Ворошилова корреспонденту «Известий» о причинах разрыва переговоров с военными миссиями Англии и Франции. В нём содержалось очередное лживое утверждение: «Не потому прервались военные переговоры с Англией и Францией, что СССР заключил пакт о ненападении с Германией, а наоборот, СССР заключил пакт о ненападении с Германией в результате, между прочим, того обстоятельства, что военные переговоры с Францией и Англией зашли в тупик в силу непреодолимых разногласий».
31 августа Молотов выступил с докладом на внеочередной сессии Верховного Совета СССР, созванной для ратификации советско-германского пакта. В отличие от большинства его выступлений, отмеченных бесцветностью и сухостью, этот доклад включал ряд идеологических «новаций», содержал отточенные формулировки и саркастические выпады по отношению к зарубежным критикам пакта. Молотов как бы переживал свой звездный час в качестве одного из авторов наиболее масштабного политического решения, в принятии которого ему когда-либо приходилось принимать участие. Он утверждал, что «советско-германский договор о ненападении означает поворот в развитии Европы, поворот в сторону улучшения отношений между двумя самыми большими государствами Европы. Этот договор… даёт нам устранение угрозы войны с Германией, суживает поле возможных военных столкновений в Европе и служит, таким образом, делу всеобщего мира». Если же «не удастся избежать военных столкновений в Европе», то масштаб военных действий, по словам Молотова, «теперь будет ограничен». Недовольными советско-германским договором, безапелляционно утверждал Молотов, «могут быть только поджигатели всеобщей войны в Европе, те, кто под маской миролюбия хотят зажечь всеевропейский военный пожар».
В связи с подписанием советско-германского договора Молотов не преминул упомянуть о проницательности Сталина, напомнив о «том разъяснении нашей внешней политики, которое было сделано несколько месяцев тому назад на XVIII партийном съезде… т. Сталин предупреждал против провокаторов войны, желающих в своих интересах втянуть нашу страну в конфликты с другими странами… Как видите, т. Сталин бил в самую точку, разоблачая происки западноевропейских политиков, стремящихся столкнуть лбами Германию и Советский Союз. Надо признать, что и в нашей стране были некоторые близорукие люди, которые, увлекшись упрощённой антифашистской агитацией, забывали об этой провокаторской работе наших врагов. Тов. Сталин, учитывая это обстоятельство, ещё тогда поставил вопрос о возможности других, невраждебных, добрососедских отношений между Германией и СССР. Теперь видно, что в Германии в общем правильно поняли эти заявления т. Сталина и сделали из этого практические выводы. Заключение советско-германского договора о ненападении свидетельствует о том, что историческое предвидение т. Сталина блестяще оправдалось. ( Бурная овация в честь тов. Сталина. )»
Отождествляя германский народ с гитлеровской кликой, Молотов объявил договор воплощением стремлений к «развитию и расцвету дружбы между народами Советского Союза и германским народом». Касаясь причин столь резкого поворота в германо-советских отношениях, он отделался тавтологией: «Да, вчера ещё в области внешних отношений мы были врагами. Сегодня, однако, обстановка изменилась, и мы перестали быть врагами».
Читать дальше
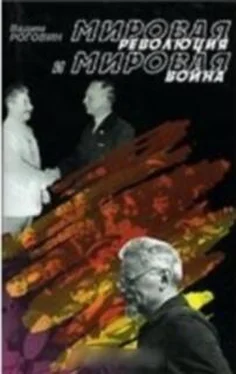




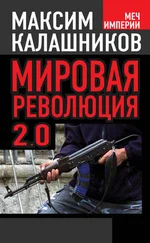
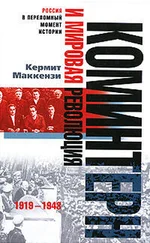

![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/413881/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik-thumb.webp)