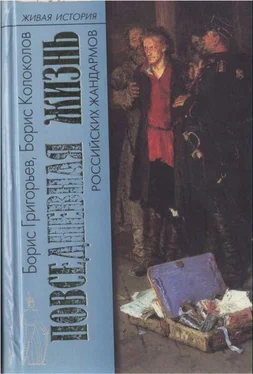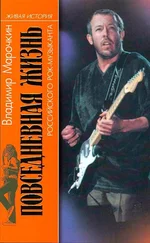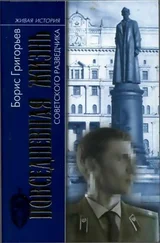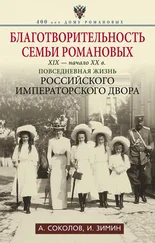Жена князя М. С. Путятина, начальника Царскосельского дворцового управления.
Доктор медицины, старший врач Царскосельского дворцового лазарета, в котором работала и царица Александра Федоровна.
Комиссар Временного правительства, кажется, преувеличил: А. И. Спиридович на самом деле пользовался книгами, взятыми им для написания своих трудов из Департамента полиции и охранных отделений, но приобретать их на казенные средства он не мог, потому что все они были запрещены и в продажу никогда не поступали. Это были конфискованные у революционеров экземпляры; которые накапливались в оперативных библиотеках полицейско-сыскных органов империи.
Историей деятельности агентов русской политической полиции за границей занимались многие советские историки, в частности, такие признанные эксперты, как П. Е. Щеголев, З. И. Перегудова, В. К. Агафонов и др. Они, в частности, утверждают, что с 1911 года за границу стали командироваться петербургские филеры, то есть агенты службы наружного наблюдения Петербургского охранного отделения. Наши скромные архивные изыскания позволили, во-первых, отодвинуть временные рамки этих командировок на пару лет назад, а во-вторых, выяснить, что в загранкомандировки ездили не сотрудники охранных отделений Департамента полиции, а агенты Охранной агентуры, подведомственной дворцовому коменданту. Эти нюансы упомянутым специалистам по царскому политическому сыску уловить почему-то не удалось.
Что и оправдалось на практике: скоро он будет повышен в звании. А. П. Мартынов, известный деятель политического сыска, жандармский полковник, в своих мемуарах тоже указывает на эту черту А. И. Спиридовича.
В. Л. Бурцев тоже «сложил оружие», в 1914 году вернулся в Россию, был арестован, судим и отправлен в ссылку, из которой, однако, вернулся уже в 1915 году. Ждали в Департаменте полиции и появления в родных пенатах Бориса Савинкова, но он от возвращения на родину до Февральской революции благоразумно воздержался.
Когда в октябре 1894 года невеста цесаревича Алиса Гессенская в сопровождении своей старшей сестры великой княгини Елизаветы Федоровны через Симферополь и Алушту ехала на «смотрины» к будущему свекру в Ливадию, то ее экипаж конвоировало конное подразделение Крымского полка, состоявшее из крымских татар. Став императрицей, Александра Федоровна в 1909 году удостоила Крымский конный полк чести своего монаршего патронажа и покровительства.
Интересный факт: каждый полк в те времена — во всяком случае, в гвардии — имел своего портного, как правило, из евреев. Жаль, что евреи теперь покинули эту уважаемую профессию и переключились на торговлю и финансы! О том, чего стоили полковые портные, Верба приводит занимательный рассказ: «На представлении офицеров…осенью 1911 г. государь… рассказал: „На днях получаю прошение… читаю подписи, их было что-то четыреста, и все фамилии и имена жидовские. Оказывается, жители г. Колпина просят, чтобы я не переводил Александрийских гусар в Самару. Мне еще военный министр по этому поводу… не докладывал, а они уже просят… им, видно, выгодно, чтоб стоял кавалерийский полк…“»
Рассказ Лейбы Ляховицкого приведен в соответствии с текстом автора мемуаров.
Сменивший Дедюлина в 1913 году на этом посту В. Н. Воейков разрешил свободный пропуск «старца» во дворец (правда, пройдя через ворота, Распутин должен был предупредить дежурного офицера-охранника о своем приходе по внутреннему телефону).
Наиболее существенные выдержки.
Данных о принятии этой аттестации в кадровую работу ОКЖ нами не обнаружено.
Далее идет перечисление этих брошюр.
Установлены совершенно секретно 6 мая 1862 года по утверждении царем с небольшими изменениями.