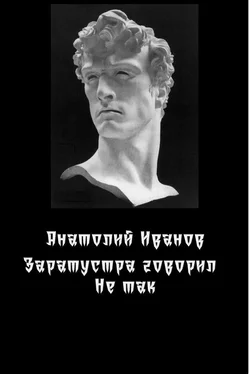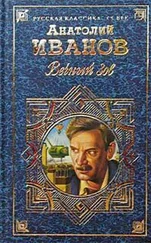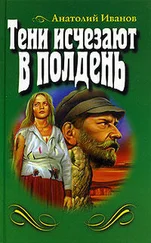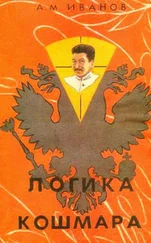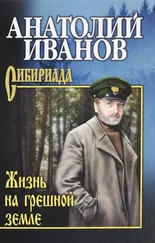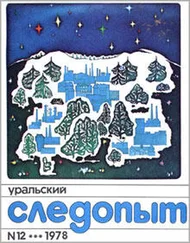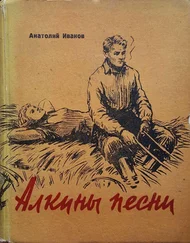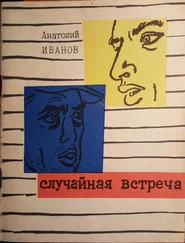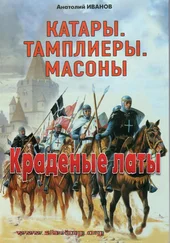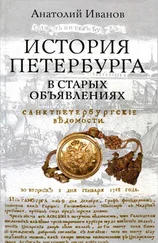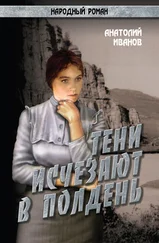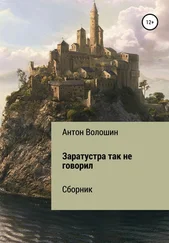Т.Лер-Сплавинский тоже стоит на той точке зрения, что общеславянский диалектный комплекс находился «в ближайшем родстве с комплексом наречий балтийских племен и германцев, связи же этого комплекса с наречиями иранских племен... были во всяком случае намного слабее» [Т.Лер-Сплавинский, цит.соч., стр.25.]. Я нарочно привожу мнения братьев-славян, которых нельзя заподозрить в германофильстве. Наконец, такой наш авторитет, как Ф.Филин, тоже считает, что «нет оснований предполагать, что в эпоху распада общеиндоевропейского единства и начала формирования отдельных индоевропейских языковых групп существовала особая близость между протославянами и индо-иранцами» [Ф.Филин, цит.соч., стр.139.].
Славяне, похоже, занимали промежуточное положение между германцами и балтами с одной стороны и индо-иранцами с другой, попеременно входя в контакт то с теми, то с другими. Лучше всех динамику этого процесса показал Б.Горнунг. Он предполагает, что первоначально индоевропейские языки делились на две древнейшие диалектные зоны – юго-восточную и северо-западную, и в этот период, т.е. в конце IV – первой половине III тысячелетия предки славян и тохар входили в юго-восточную группу, т.е. жили вместе с индо-иранцами. Однако экспансия племен боевых топоров в конце III тысячелетия оторвала славян и тохар от этой группы и связала их с частью северо-западной. Именно этот контакт и отразился в связях германских языков с балтийскими и славянскими, которые В.Георгиев ошибочно считает исконными [Б.В.Горнунг, цит.соч., стр.15-18.]. Славянские и балтийские языки невозможно оторвать ни от индо-иранских, ни от германских, они являются органическим связующим звеном между ними, причем балтийские языки ближе связаны с германскими, а славянские – с индо-иранскими и в особенности с иранскими [А.В.Десницкая. Вопросы изучения родства индоевропейских языков. М.-Л., 1955, стр.155-156.].
Возвращаясь к «боевым топорам», теперь можно сказать, что А.Брюсов слишком расширил этническую основу этой культуры, зато Р.Денисова [Р.Я.Денисова, цит.соч., стр.13.] и Н.Гусева [Н.Р.Гусева, цит.соч., стр.35.] ее слишком сужают, отдавая все на откуп одним балтам (летто-литовцам). Это верно лишь для восточной ветви, для Прибалтики и фатьяновской культуры Поволжья.
А.Арциховский прав, когда критикует немецких археологов-расистов, которые говорили «об экспансии фантастических прагерманцев, колонизировавших якобы в бронзовом веке Верхнюю Волгу» [А.В.Арциховский. Основы археологии. М., 1955, стр.85.], но боевые топоры Западной Европы – несомненно, германцы. Именно тогда они и вытеснили кельтов из Южной Скандинавии. Однако германцев отрезала от балтов и славян во второй половине II тысячелетия до н.э. встречная волна венетов, которые заняли территорию Польши и создали на ней лужицкую культуру, ошибочно приписываемую Т.Лер-Сплавинским славянам [Т.Лер-Сплавинский, цит.соч., стр.27-28.]. Лер-Сплавинским в данном случае движут узко-патриотические соображения и стремление перетащить прародину славян на территорию Польши. На самом деле ни лужицкая культура не была славянской, ни венеты – славянами. Как пишет Ф.Филин, «если бы это были славяне, то контакт между германцами и славянами в бассейне Одера был бы постоянным, что несомненно сказалось бы на языке. Однако языковые данные ... свидетельствуют против наличия такого контакта» [Ф.П.Филин, цит.соч., стр.138.]. С.Бернштейн тоже говорит, что Висла в течение многих веков была устойчивой границей прославянского и венетского языка (до IV-III в. до н.э.) [С.Б.Бернштейн. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, стр.64.]. Принадлежность венетского языка к кельто-италийской группе бесспорна и вопрос может стоять лишь о том, к какой именно ветви. Ни на каких Гиндукушах никаких венетов отродясь не бывало. Гиндукуш объявил «перевалом вендов» покойный В. Емельянов в своей «Десионизации».
Мнения о родстве балтов со славянами сильно расходятся. Если В.Георгиев договаривается даже до того, будто «консервативный в области фонетики и морфологии литовский язык (В.Георгиев считает его самым архаическим из существующих индо-европейских языков) может в известной мере заменить незасвидетельствованный праславянскии язык» и относит период балтославянской общности к третьему тысячелетию, и ее распад – ко второму [В.Георгиев, цит.соч.. стр.221,224,279.], то для Ф.Филина «гипотеза балтославянского праязыка в целом не имеет под собой прочной научной опоры» [Ф.П.Филин, цит.соч., стр.125.]. В роли примирителя точек зрения опять выступает Б.Горнунг. В его изображении все предки балтов и славян имели контакт с носителями южно-русских степных культур, предками индо-иранцев. Этот этап дал изоглоссу сатем. На раннем этапе развития этой изоглоссы еще сохранялись связи северо-западной части ранних праславян с группой прусоятвяжских племен и уже формировалась связь этих последних с леттолитовцами. Не ранее середины II тысячелетия протославяне, утратив контакт с летто-литовцами, превратились в праславян после образования общебалтийской общности, в которую вошли и оторвавшиеся от славян протопрусские племена (прусы, ятвяги, голядь) [Б.В.Горнунг, цит.соч., стр.73,49.]. Все было бы хорошо, но Б.Горнунг портит дело тем, что не признает генетической связи прабалтов с фатьяновцами и не верит, что летто-литовские племена появились в Прибалтике уже в начале II тысячелетия до н.э. [Там же, стр.128-129.] Рубеж III и II тысячелетия как раз и знаменует собой окончательный распад индоевропейской общности, в частности, и разделение на группы кентум и сатем. Следовательно, образование изоглоссы сатем нужно отнести к III тысячелетию, когда индо-арийцы и балты еще не разошлись в разные стороны. Процесс «сатемизации» охватил индо-иранцев, славян, балтов и фракийцев (трипольская культура), но уже не достал германцев и тохар, ушедших в авангарде боевых топоров (тохарам, похоже, принадлежит балановский вариант фатьяновской культуры).
Читать дальше