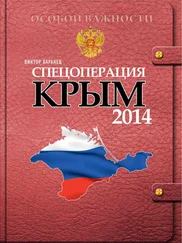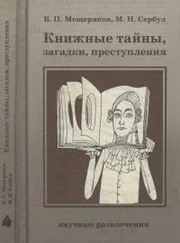В конце 1996 года Кремль еще раз объявил о своем намерении идти по пути усиления демократического контроля над Воруженными силами — президент издал указ, в соответствии с которым глава военного ведомства Игорь Родионов обретал статус гражданского министра. Но при чем здесь широко разрекламированное «усиление системы демократического контроля», понять было невозможно. Зато совершенно ясно было другое: Кремлю наш военный министр при погонах не угоден (да и без них тоже). Но это решение Ельцина в стане демократов было встречено аплодисментами. Его восхищенно называли «широким шагом к усилению гражданского контроля над армией».
Ровно через пять месяцев президент вновь назначил на пост министра сугубо военного человека, но никто из демократов при этом и не заикнулся о том, что сделан «широкий шаг назад».
Вообще если проанализировать все перипетии, касающиеся этого вопроса, то станет совершенно очевидно, что все попытки высшей исполнительной власти установить гражданский эффективный контроль над Вооруженными силами — это длинная цепь непоследовательных и глубоко подверженных политической конъюнктуре мер. Как любил говорить Павел Сергеевич Грачев: «Где факты?» Вот они.
Уже вскоре после победы демократов в России новые власти пришли к безусловно верному выводу — Главная военная инспекция (ГВИ) должна быть независимой от Минобороны. Ибо только при таком подходе можно было добиться объективной информации о профессионально-нравственном состоянии армии (госинспекторов издревле называли «государевым оком» в войсках).
Какое-то время ГВИ находилась в непосредственном подчинении президента и сумела поставить в Кремль немало правдивых сведений о состоянии боеготовности войск, дисциплины и правопорядка в армии, вскрыть серьезные недоработки высшего военного начальства. Но это стало вызывать недовольство в МО. Руководство начало активно инициировать идею возвращения ГВИ в «родное лоно» военного ведомства. И все вернулось на круги своя. Главная военная инспекция снова была введена в структуру МО, а Главный военный инспектор был даже возведен в ранг замминистра.
Это означало откат новых властей от установления государственного контроля над армией и привело к усилению закрытости военного ведомства, упрочению его «кастовых» интересов, бурному развитию коррупции в высшем военном руководстве.
Военное ведомство, как и раньше, само себе определяло задачи в подготовке войск и само же контролировало их выполнение. Результаты большинства проверок в военных округах и на флотах в итоговых документах нередко подгонялись так, чтобы они устраивали министра и не слишком раздражали Верховного Главнокомандующего. Вот как отзывался о таком очковтирательстве бывший в ту пору начальником академии Генерального штаба Игорь Родионов:
— Министерство обороны, пользуясь отсутствием реального контроля со стороны государства за своей деятельностью (военная инспекция подчиняется министру обороны), вводит политическое руководство и общественность страны в заблуждение относительно боеготовности Вооруженных сил, состояния хода и качества их реформирования.
Слабый государственный контроль за состоянием Вооруженных сил приводил к серьезным деформациям в оценке боеготовности не только подразделений и частей, но и целых стратегических группировок. В документах МО и ГШ стали использоваться странные термины: «части недобоеготовы», «частично боеготовы», «боеготовы на 70%». Бывали случаи, когда оценку за боеготовность получали полки, укомплектованные на 40%, хотя по существующим правилам оцениваться могли лишь части, укомплектованные не ниже, чем на 70%.
А на Тихоокеанском флоте итоговая оценка соединению была выставлена однажды в зависимости от результатов стрельб всего лишь одного боевого корабля.
Было немало и других примеров очковтирательства и формализма. По итогам 1993 года Северный флот был признан лучшим в ВМФ России, хотя на нем были не боеготовы многие атомные подлодки.
Случалось, что первые лица в МО и ГШ в оценках положения дел в армии давали настолько противоречивые оценки, что даже в Кремле стали замечать липу.
Например, в директиве министра обороны об итогах подготовки Вооруженных сил в 1994 году и задачах на 1995 год говорилось, что произошел рост числа преступлений. А уже вскоре на закрытых слушаниях в Думе (7 апреля 1995 года) начальник Генерального штаба Михаил Колесников утверждал обратное: «У нас идет снижение преступлений и происшествий».
Читать дальше
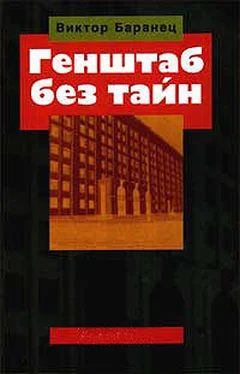




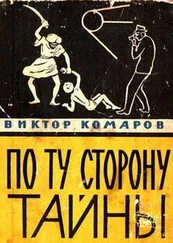

![Виктор Баранец - Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres]](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-thumb.webp)