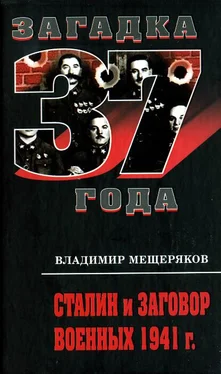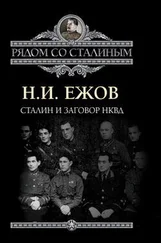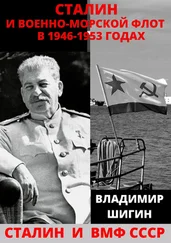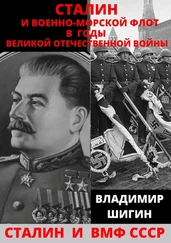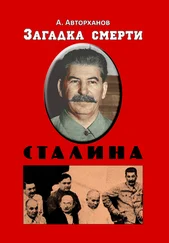В данном случае, надуманность принятого решения очевидна, а эти люди просто выполняли задание партии. В отношении И.Г. Старинова, сказать что-то определенное сложно, т. к. Илья Григорьевич тоже пострадал при написании собственных мемуаров: цензура нещадно вырезала «правду» о войне из его рукописи. Кроме того, ему «зажали» звание генерала, которое Старинов вполне заслужил своими ратными делами. Что же касается А.Ф.Федорова, то этот партийный деятель был довольно высокого ранга и вполне мог колебаться в соответствии с заданной линией партии.
«Почему Федоров и Старинов так ведут себя, чем вызвано их такое отношение к Вам?» — интересуюсь у Пантелеймона Кондратьевича.
Федоров, как и Хрущев, не мог пережить моего назначения начальником Центрального штаба партизанского движения. Я как-нибудь расскажу Вам, как все это произошло. Что касается Старинова, то причина его такого отношения ко мне тоже уходит в военную пору. В начале осени 1942 года ему удалось подписать у Ворошилова, назначенного 9 сентября Главкомом партизанского движения, распоряжение о массовом изготовлении новых типов мин для подрыва вражеских эшелонов. Главным агитатором этих мин был Старинов. Вскоре после снабжения ими партизанских отрядов в Центральный штаб партизанского движения стали приходить тревожные сообщения: мины не взрываются. Только позднее была выявлена причина такого казуса: мины, которые активно пропагандировал Старинов, были рассчитаны на более тяжеловесные паровозы, какие имелись у нас, но никак не на немецкие. Потом партизаны с этим делом разобрались и приспособили «стариковские мины» к подрыву поездов противника, но большие издержки были налицо. Старинов получил взыскание, хотя заслуживал более строгого наказания…».
Дело, думается не в личностях, нашли бы других исполнителей воли руководителей высшего партийного звена. Цель — скомпрометировать Пономаренко и не дать возможности выпуска его, относительно правдивых мемуаров, а Федоров и Старинов — инструмент, как «фомка» для грабителя. К тому же высокие чины всегда стремятся сохранить видимость объективного судейства.
« Между тем письмо «истинного патриота» встревожило адресатов и достигло своей цели: «сверху» была спущена директива — издать работу Пономаренко тиражом не более 2 500 экземпляров под грифом «Для служебного пользования». В таком виде, спустя полтора года, она, наконец, увидела свет и 9 марта 1983 года мне представилась возможность вручить её автору. Пантелеймон Кондратьевич был безмерно рад. На моем экземпляре книги он написал: «Дорогому Г. А. Куманеву на память о работе над книгой и с благодарностью за вложенный в неё труд. Пономаренко. 9.3.85. Внуково».
Создали видимость демократии и свободы слова, а по сути, ограничили доступ к изданной публикации. Есть узкий круг лиц, кому предоставлена возможность прочитать книгу под грифом «Для служебного пользования», а остальные пусть утрутся. А, ведь, надо учитывать, кем по должности, в свое время, был Пономаренко! Правил республикой Беларусь, которая имела самостоятельный статус в Организации Объединенных Наций. Это его, Пантелеймона Кондратьевича, Сталин ввел в 1952 году, в расширенный состав Президиума ЦК партии. Поэтому, в верхах, издания его мемуаров и боялись: много, чего мог, порассказать лишнего.
Но, все же наша общая радость омрачалась тем, что об этой книге ввиду ограничительного грифа нельзя было даже упоминать в исследованиях, библиографических описаниях, не говоря уже об откликах в средствах массовой информации. Словом, налицо парадокс: книга издана, а её вроде бы и нет.
Спустя какое-то время ответственный редактор книги академик А.М. Самсонов и я получили вызов к секретарю ЦК КПСС М. В. Зимянину. Он поручил нам обеспечить подготовку для открытой печати сокращенного варианта издания П.К.Пономаренко и добавил при этом, что освещение всех «партизанских изобретений», тактических методов и других специальных вопросов из произведения Пономаренко следует изъять. В процессе новой работы было сокращено около 5 п.л. Открытый вариант книги был опубликован в 1986 году — через два года после кончины ее автора…»
Вот это, по-нашему, по партийному. Могли бы и на могилку принести книгу, о выходе которой мечтал усопший. Кстати, не надо обольщаться тем обстоятельством, когда говорят, что, дескать, автор не дожил до « светлого дня » и не увидел своего детища. Бывает, даже, лучше, что он этого не увидел, а то, мог бы умереть от разрыва сердца.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу