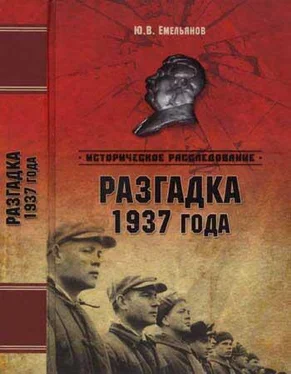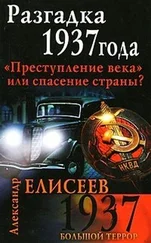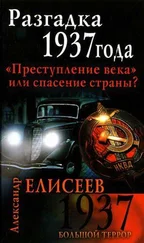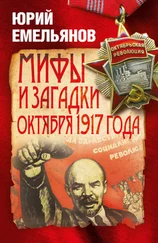Как правило, наибольшие подозрения после начала военных действий у граждан западных «демократических» стран вызывали представители многих национальных меньшинств. Подозрения падали не только на соплеменников тех стран, армии которых начали агрессивные военные действия, но и на иностранцев вообще. В дни, когда само существование основного народа страны оказывается под угрозой, многие его представители склонны воспринимать с недоверием всех, кто отличается от них по внешнему виду, языку, обычаям, поведению. Сообщения же о наличии иностранных шпионов лишь разжигают эти подозрения.
В своем исследовании «Немецкая пятая колонна во Второй мировой войне» американский историк Луи де Йонг привел немало подобных примеров. Он сообщал, как после начала германского наступления из Бельгии во Францию депортировали эмигрантов из Германии, среди которых было немало евреев, бежавших от преследований из Третьего рейха. Арестован был «перс, исключенный из университета по подозрению во враждебной деятельности». Схватили и югослава, который несколько раз поднимался вверх и вниз в своем отеле на лифте. Решили, что он подавал сигналы немцам. Из города Брюгге во Францию везли на автобусах арестованных, среди которых «были немцы, голландцы, фламандцы, евреи, поляки, чехи, русские, канадцы, англичане, французы, а также один датчанин и один швейцарец».
Неудивительно, что после начала массовых репрессий в СССР к категориям, которые числились в перечне Ежова, добавились этнические группы из представителей различных национальных меньшинств. Особые подозрения вызывали представители народов, которые жили в странах, соседних с Советским Союзом. Летом 1937 года в НКВД стали сообщать о наличии шпионов среди лиц корейской и китайской национальности на Дальнем Востоке. Следствием этого было решение о выселении всех корейцев из приграничных районов, а затем и из всего Дальневосточного края.
Подозрения вызывали политэмигранты из Германии, а также русские, вернувшиеся в Россию из Харбина. Подозревали также огульно румын, поляков, латышей, эстонцев и финнов, то есть представителей всех народов из стран, расположенных на западной границе СССР. Разумеется, среди этих людей были настоящие шпионы, но их, как правило, были единицы.
Следует учесть, что, в отличие от других стран мира, переживших в конце 1930-х — начале 1940-х годов эпидемии массовой паранойи, наша страна постоянно находилась в ожидании не только внешнего нападения, но и новой гражданской войны. Эти настроения обострились к середине 30-х годов. По этой причине в стране было много людей, готовых найти тайного агента из любой страны «капиталистического окружения» или «не разоружившегося классового врага».
Защита же Сталиным «маленького человека» от произвола партийных верхов также имела свою теневую сторону. Его поддержка таких активистов, вроде Николаенко, которая в одиночку выступала против Постышева и других, лишь вдохновила многих других «маленьких людей» на разоблачение «тайных врагов». В своих мемуарах Н. С. Хрущев, вероятно, не слишком преувеличил, рассказав о том, как в разгар событий 1937 года был публично оклеветан заместитель начальника областного отдела здравоохранения Медведь: «На партийном собрании какая-то женщина выступает и говорит, указывая пальцем на Медведя: „Я этого человека не знаю, но по его глазам вижу, что он враг народа“». Хотя Медведь сумел найти грубоватый, но адекватный ответ, он, по словам Хрущева, подвергался серьезной опасности, так как если бы он «стал доказывать, что он не верблюд, не враг народа, а честный человек, то навлек бы на себя подозрение. Нашлось бы подтверждение заявлению этой сумасшедшей, сознававшей, однако, что она не несет никакой ответственности за сказанное, а наоборот, будет поощрена. Такая была тогда ужасная обстановка».
Следует учесть, что готовность обрушить жестокие репрессии на людей отвечала господствующим в то время настроениям в обществе. Многие советские люди не только легко обнаруживали «тайных врагов», но и с большой легкостью придумывали способы жестоких наказаний тех, в ком они видели врагов общества. Подобные настроения были характерны в самых разных слоях советского населения. В своей книге «Россия. Век XX. 1901–1939» Вадим Кожинов привел поразительный документ этой эпохи — письмо к Сталину детского писателя Корнея Чуковского, в котором тот предлагал сажать под стражу десятилетних детей за мелкие карманные кражи и бросание песка в обезьянок в зоопарке. Автор первых стишков, которые в детстве заучивали советские дети, обращался с предложением: «Для их перевоспитания необходимо раньше всего основать возможно больше трудколоний с суровым военным режимом… При наличии этих колоний можно произвести тщательную чистку каждой школы: изъять оттуда всех социально-опасных детей». Писатель поименно называл детей, которых он хотел бы видеть среди первых обитателей этих колоний. Однако было бы неверным объявлять Корнея Чуковского «патологическим исключением» того времени. Нет сомнения в том, что под его письмом могли бы тогда подписаться многие люди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу