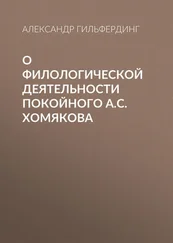Последние слова относятся, без сомнения, к другому знамени, а не к другой богине, ибо Титмар именно говорит, что одна лютицкая богиня изображена была на знаменах. Изображение это было, кажется, вышитое или нарисованное на самом знамени, а не изваянное на древке, иначе нельзя было бы пробить в нем дыру камнем. Вспомним еще приведенное выше известие того же Титмара, что Сварожич и прочие радигощские боги, одетые в шлемы и латы, имели свои знамена, которые выносились из храма не иначе, как в случае похода, и только пешими, и для тщательного хранения которых поставлены были народом особые жрецы (при знамени лютицкой богини, о котором мы говорили, находились именно такие жрецы, по указанию Титмара). И опять в другом месте Титмар пишет, что "Лютичи шли в поход, неся перед собою своих богов". Речь идет, очевидно, об одних и тех же знаменах Сварожича и других радигощских истуканов, и если Титмар мог назвать эти знамена богами, то следует, кажется, заключить, что на них находились изображения самих божеств. Если мы сблизим все четыре показания Титмара о священных знаменах лютичей, то увидим совершенное сходство в значении и характере этих знамен и не усомнимся причислить знамена богини к числу тех знамен, которые с таким благоговением хранились в Радигоще. Нельзя ли поэтому предположить, что и сама богиня пользовалась поклонением в Радигоще и стояла там в числе истуканов, окружавших Сварожича?
О поклонении славян Радигосту сохранилось воспоминание еще и в легенде об Эббекесдорских мучениках, о которой было говорено. Известный нам Ботон, сочинитель Саксонской хроники, описывает истукан Радигоста следующим образом: "Оботритский идол в Мекленбурге, называвшийся Радигостем, держал на груди щит, на щите была (изображена?) черная буйволиная голова, в руке был у него молот, на голове птица".
Форма Кръс была бы даже древнее, нежели Хръс: из сопоставления в русских памятниках имен Хорс-Дажьбог явствует, что Хорс было одно из мифологических наименований Солнца (Дажьбог есть имя бога Солнца, это достоверно), и действительно, корень кръс, крес означает свет, огонь и т. п., кресево — огниво, и даже кресить, воскресить, где отвлеченное понятие возрождения жизни развилось, очевидно, из образа рождающегося на кремне огня; наконец, санскритское слово кръсану огонь. Что же касается другого имени бога Солнца, Дажьбог, то и оно, кажется, заключает в себе понятие горения, огня: мы не сомневаемся в верности производства этого имени, предложенного впервые, сколько нам известно, почтенным С. П. Микуцким, от древнего корня даг жечь: Дажьбог, таким образом, значит жгучий бог.
Современные свидетели именно называют общими божествами балтийских славян бога Небесного, Святовита и Чернобога; Радигоста одинаково обожали враждебные племена бодричей и лютичей, и в храм его приходили на поклонение со всех концов славянского Поморья; Яровита чтили и на Поморье, и в Стодорской земле; о Живе прямого известия нет, но само имя ее, указывающее на общность ее мифологического значения, может служить верной порукой, что и признание ее было общее.
Именно, по свидетельству Саксона, было в Коренице семь одинаковой величины сундуков, наполненных деньгами, посвященными ранским богам.
Судя по грамматической форме имени, Подага была существо женское. Не образовано ли имя это из того же корня даг, которое мы находили в названии Дажьбога? Подага значило бы в таком случае Пожигающая, она была бы подруга Святовита, как Сварожича, бога света, или Яровита, и могла бы быть внесена в общую мифологию балтийских славян; но мы, разумеется, не осмеливаемся придать какое бы то ни было значение этим догадкам, основанным на столь сомнительном словопроизводстве.
Годрак — теперь Goorstorf (сокращение старого названия Godhardstorp), близ Ростока. Лиш говорит, что на большой Шметтауской карте Мекленбурга у Горсторфа отмечена роща, именуемая доселе Heidenholz (т. е. языческая роща).
Из слов Эббона следовало бы заключить, что столб волынский стоял внутри какого-то капища, но это весьма невероятно, по соображению с другими показаниями: когда проповедник Бернгард, едва вошедши в Волын, принялся тотчас рубить священный столб "Юлия Цезаря", то, по-видимому, столб должен был стоять на виду, в открытом месте; притом, если бы столб с копьем находился внутри какого-нибудь здания, мог ли бы он быть таким огромным, каким описывают его очевидцы? Сколько нам известно, балтийские славяне не умели строить высоких храмов и башен. Мы скорее предполагаем ошибку со стороны безымянного составителя третьего Оттонова жития, в рассказе которого мы находим вообще менее точности, чем в житиях, приписываемых Сефриду и Эббону.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
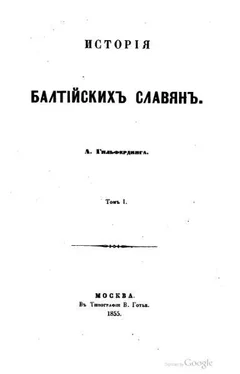

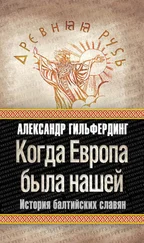
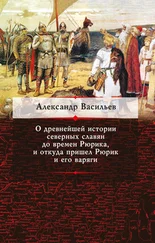
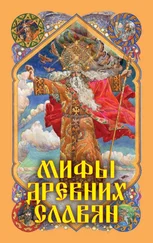


![Александр Широкорад - Давний спор славян. Россия. Польша. Литва [с иллюстрациями]](/books/298682/aleksandr-shirokorad-davnij-spor-slavyan-rossiya-po-thumb.webp)