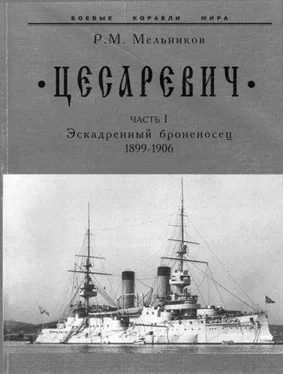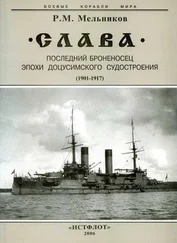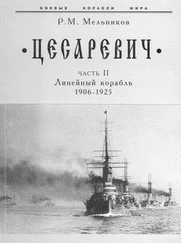В бухту Сабанг на голландском острове Пуло-Вей "Цесаревич" и "Баян" пришли 28 октября 1903 г. Этот порт только что, (в 1899 г.) был "открыт" русским флотом. Инициатива частной голландской компании позволила обходиться без захода в Сингапур, где англичане в любое время могли помешать снабжению русских кораблей углем. Здесь "Цесаревич", приняв 1170 т, заполнил все угольные ямы. Поход продолжили 2 ноября. 5–7 ноября стояли в Сингапуре, пополнив только запасы продовольствия. Предстоял уже прямой, но затяжной бросок до Порт-Артура протяженностью 2630 миль. Этот путь, идя со средней скоростью 9,68 уз, преодолели за 272 часа. Угля затратили: "Цесаревич" — 997, "Баян" — 820 т. В готовности прорываться с боем корабли вошли в Желтое море, и 19 ноября с расстояния 60 миль от Порт-Артура "Цесаревич" вступил в радиопереговоры со станцией Золотой горы.
Спустя четыре часа на фоне выраставших из моря крутых скал порт-артурской крепости увидели стоявшие на внешнем рейде в их непривычной темно-оливковой окраске первые корабли Тихоокеанской эскадры — флагманский "Петропавловск", его легко было узнать по пониженной в сравнении с дымовыми трубами колонной для грузовых стрел. Также хорошо различались своей американской архитектурой (со ступенчатыми дымовыми трубами) "Ретвизан" и крейсер "Варяг". За ними увидели канонерскую лодку "Манджур" и крейсер "Боярин".
13-ю выстрелами "Цесаревич" салютует флагу начальника эскадры и 7-ю крепости, Ему отвечают двумя салютами по 7 выстрелов. По I сигналу с "Петропавловска" корабли отдают якоря. Поход, полный тревожных ожиданий, огромных усилий и исключительного нервного напряжения, благополучно завершился. В тот же день З.П. Рожественский "всепреданнейше" телеграфировал в Ай-Тодор находившемуся там в своем имении великому князю Александру Михайловичу (1866–1933) о блестящем завершении руководимой им операции. Царедворец должен был никого "из высших сфер" не забыть. А князь ведь среди государственных должностей числился и младшим флагманом Черноморского флота.
Приказом наместника его императорского величества на Дальнем Востоке от 20 ноября и продублировавшим его, как было заведено, приказом начальника эскадры № 184 от 30 ноября "Цесаревич" и "Баян" с 19 ноября 1903 г. зачислялись в состав эскадры Тихого океана. Сказочным сном оставалось для их экипажей волшебство красот Лазурного берега, аромат его живительного воздуха и зрелище фешенебельных курортов Ривьеры, которые З.П. Рожественский не хотел им простить. На смену явилась суровая реальность обступивших корабль мрачных скал, высокой громадой нависших над рейдом, холод, снег и туман от обильных испарений еще не остывшего и упорно не хотевшего замерзать Желтого моря.
Трудно давалось вживание в новый климат, в новый эскадренный быт и в новый порядок службы под неусыпным оком двух начальствующих структур — Морского штаба и наместника (как адмирал он не хотел выпускать флот из рук). Как рассказывали впоследствии офицеры кораблей, их после громоздившихся один на другой страхов и ожиданий, что вот-вот грянет война, поразила царившая на эскадре атмосфера благодушной самоуспокоенности.
Японская тактика периодически создававшихся искусственных подъемов и спадов напряженности в отношениях с Россией, рутина службы в отдаленной от России на тысячи верст гавани и подтачивавшая боеготовность флота экономия вооруженного резерва делали свое дело. C уходом во Владивосток после осенних маневров четырех крейсеров ("Россия", "Громобой", '"Рюрик", "Богатырь") уменьшился и состав эскадры. (Еще летом были переведены во Владивосток 7 номерных миноносцев 203–206, 208, 210, 211). Прибытие двух новейших кораблей внесли оживление в сонное существование вооруженного резерва. Вот-вот ожидался (как всем казалось) подход второго отряда подкреплений во главе с "Ослябей". А пока, не подозревая о судьбе отряда А.А. Вирениуса, эскадра в Порт-Артуре и "Цесаревич" с эскадрой продолжали боевую подготовку, стоя на якоре. Утром 20 ноября начальник эскадры вице-адмирал О.В. Старк (1846–1928) посетил "Цесаревич" и "Баян", после чего "Петропавловск" и "Боярин" снялись с якоря для похода в Чемульпо. Этот корейский порт служил своего рода незримой границей интересов России и (Японии. Здесь держали свои стационеры европейские державы. Здесь всегда что-то происходило. На сей раз предстояло разобраться в причинах нападения на русских матросов со стоявшей там канонерской лодки "Бобр" огромной толпы переодетых, как подозревали, под кули японских солдат. Уже тогда, подогретые открыто раздувавшейся в Японии шовинистической антирусской пропагандой, сыны Страны восходящего солнца рвались в бой.
Читать дальше