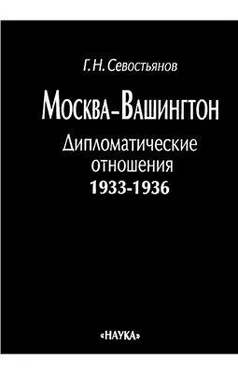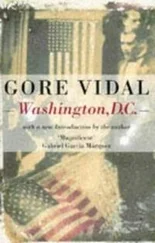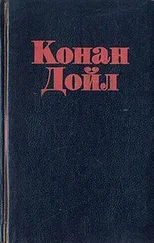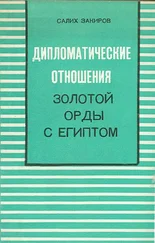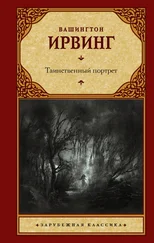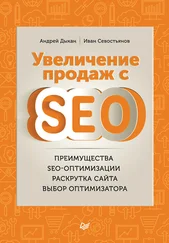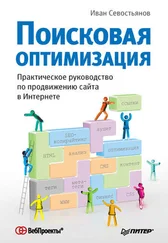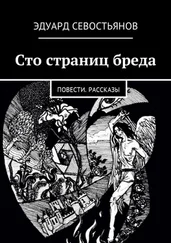Их нужно 250 тыс. т. Такое предложение было обусловлено тем, что советское правительство планировало прокладку второго пути на магистральных железных дорогах — Урало-Кузбасской, Забайкальской, Уссурийской. Говоря о возможном нападении Японии на Советский Дальний Восток весной 1934 г., Сталин сказал: "Мы и без этих рельсов разобьем японцев, но если они у нас будут, то сделать это будет легче"18. Буллит обещал прозондировать этот вопрос в своем правительстве, поинтересовавшись при этом, как их доставлять, с кем вести переговоры о заключении соглашения и кто его подпишет. Сталин ответил: это возможно оформить через Амторг, который возглавляет П.А. Богданов. Поставлять рельсы удобнее через Владивосток. Сталин представил Буллиту начальника Штаба Красной Армии А.И. Егорова со словами: это он поведет наши доблестные войска против японцев, если они осмелятся напасть на нас19. Егоров был выходцем из крестьянской семьи, в молодости работал кузнецом-молотобойцем. После призыва в армию поступил в военную школу, получил офицерское звание и служил в царской армии в чине подполковника. В гражданскую войну командовал частями Красной Армии. В 1931 г. был назначен начальником Штаба РККА. Выразив восхищение провозглашенной президентом Рузвельтом программой выхода США из кризиса и признав его популярность в нашей стране, Сталин спросил Буллита, какие у него просьбы. Буллит не задумываясь ответил: построить здание посольства на Воробьевых горах. Неожиданно последовал ответ: "Вы будете иметь это здание"20. Посол был беспредельно рад. То была его заветная мечта, и вдруг так легко и быстро она может претвориться в жизнь — ведь сам Сталин пообещал. Но последующие события показали: то были просто слова, равно как и фраза Сталина, что посол в любое время дня и ночи может обратиться к нему и встретиться с ним, достаточно только уведомить. За те годы, что Буллит был послом в Москве, Сталин ни разу его не принял. Все попытки Буллита увидеться с ним оказывались тщетными. Да и Молотов, ссылаясь на занятость, принимал его редко, причем сугубо официально, строго придерживаясь протокола. Все это вызывало недоумение и разочарование у посла. Беседа Сталина с Буллитом 20 декабря имела большое позитивное значение. То была сенсация для дипломатического корпуса: Сталин не любил принимать послов и делал это в исключительных случаях. Буллит же сразу вступил в контакт с ним. Это произвело впечатление и в Вашингтоне. Советское правительство действительно было заинтересовано в налаживании экономических, торговых, а главное политических связей с США, что подтвердила встреча посла с Литвиновым 21 декабря. В этот день глава внешнеполитического ведомства СССР имел длительную беседу с Буллитом. Литвинов был в хорошем настроении. Политбюро ЦК ВКП(б) только что одобрило обширную внешнеполитическую программу, разработанную НКИД, — о создании системы коллективной безопасности, обеспечении мира и предотвращении войны. Одним из активных инициаторов этой идеи был Литвинов. В основу программы был положен принцип неделимости мира, который можно успешно защищать объединенными усилиями миролюбивых государств. В беседе с послом Литвинов затронул широкий круг вопросов международного положения и внешней политики советского государства. Международная обстановка была сложной и противоречивой. Мир переходил от эры пацифизма к гонке вооружений. Проявлялась повышенная активность дипломатии отдельных государств, стремившихся к перегруппировке сил и оформлению новых комбинаций. Пацифизм побежденных в первой мировой войне государств уходил в прошлое. Их представители дерзко заявляли о реванше, о намерении создать вооруженные силы, становились на путь пересмотра ранее заключенных договоров, открыто говорили о подготовке к войне. Страны-победительницы были против ревизии Версальско-вашингтонской системы договоров и соглашений, но ратуя за сохранение послевоенного порядка, вели себя нерешительно и боязливо. Их лидеры широковещательно говорили о мире, разоружении и пацифизме, особенно на международных встречах и конференциях, где принималось немало резолюций по этим вопросам. А межгосударственные противоречия и разногласия в это время расширялись и углублялись, становились все более ощутимыми. Об этом свидетельствовали многие факты. В начале декабря Литвинов, возвращаясь из США после переговоров с Рузвельтом о нормализации отношений, посетил Италию. В Риме встретился с Муссолини. Они обсудили ситуацию в Европе. Дуче заявил: "Без Советского Союза и США Лига наций не имеет никакого смысла"21. Литвинов обратил его внимание на воинственность Японии, намерения Гитлера продвигаться на восток. 4 декабря Муссолини в беседе с советским полпредом В.П. Потемкиным сказал, что Италия, возможно, выйдет из Лиги наций, политика Германии враждебна СССР и Италии, так как она собирается направить свою экспансию на северо-восток и юго-восток. И далее он многозначительно заметил: СССР "может грозить война с Японией, Германией и Польшей"22. В заявлении представителям печати Литвинов констатировал наличие множества нерешенных международных проблем, которые все более и более усложняются. 11 и 13 декабря в Москве Литвинов обменялся мнениями с германским послом в СССР Р. Надольным о состоянии советско-германских отношений. Разговор носил острый характер. Попытки посла возложить ответственность за ухудшение в отношениях между двумя государствами на советское правительство были решительно отклонены. Мы, отметил Литвинов, не намерены участвовать ни в каких интригах против Германии. В то же время он обратил внимание на заметное сближение Германии с Японией: "В момент напряженности наших отношений с Японией Германия вдруг почувствовала большую любовь к этой стране и общность интересов с ней"23. В это же время в Варшаве маршал Пилсудский при встрече с гитлеровским эмиссаром X. Раушнингом предложил обсудить вопрос о заключении антисоветского альянса между Германией и Польшей. Это стало известно в Москве. Советское правительство немедленно реагировало. 14 декабря оно предложило Польше опубликовать совместную декларацию о заинтересованности двух государств в сохранении и укреплении мира в Прибалтике. Литвинов в беседе с польским посланником Лукасевичем спросил: как Польша относится к довооружению, а точнее, вооружению Германии и к проекту декларации о решимости СССР и Польши защищать мир в Восточной Европе и независимость Прибалтийских стран в случае возникновения войны?24 Польская дипломатия маневрировала, а затем Варшава отклонила предложение Москвы. Исходя из оценки складывавшейся напряженной ситуации в Европе, Литвинов сказал Буллиту о намерении советского правительства вступить в Лигу наций. В этом проявляет большую заинтересованность Франция, заметил он25. Действительно, еще в октябре министр иностранных дел Франции Ж. Поль Бонкур поставил вопрос о возможности сближения и сотрудничества Франции и СССР в связи с усилением подготовки Германии к войне. Советское правительство одобрительно отнеслось к этому, согласилось на участие в региональном соглашении о взаимной защите от возможной агрессии Германии. 19 декабря был подготовлен для передачи французскому правительству проект заявления о согласии СССР вступить в Лигу наций и заключении регионального соглашения о взаимной защите. Участниками пакта могли быть Бельгия, Франция, Чехословакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия. Предусматривалось оказание дипломатической, моральной и по возможности материальной помощи друг другу в случае нападения. Литвинов прямо спросил Буллита, каково будет отношение США к такой дипломатической акции советского правительства. Американский посол видел крупномасштабность этой внешнеполитической инициативы и уклонился от обсуждения вопроса, заметив, что, по его личному мнению, в Вашингтоне не будут против вступления СССР в Лигу наций. Литвинов сказал: вполне вероятно весной выступление Японии против Советского Союза, и необходимо сделать все возможное для предотвращения одновременного военного конфликта и на западной границе. Здесь следует ожидать атаки от Германии и Польши. Такой комбинированный удар, разумеется, неблагоприятен для СССР. Польша намерена аннексировать Украину и часть Литвы, а Германия — остатки Литвы, Латвию и Эстонию. Во Франции видят нарастание опасности со стороны Берлина. Ее лидеры предлагают заключить оборонительный союз с советским государством в случае войны с Германией. Взаимопомощь предусматривается в рамках Лиги наций. Это один из серьезных мотивов вступления Советского Союза в данную организацию. Буллит слушал внимательно, но воздерживался от обсуждения. От европейских проблем Литвинов перешел к Дальнему Востоку, изложив план сохранения мира в этом неспокойном регионе. Никто не может точно сказать, подчеркнул он, когда будет атака Японии против СССР. Это зависит от многих факторов, как объективных, так и субъективных, в частности от того, кто будет возглавлять японское правительство и останется ли военным министром экстремист генерал Араки. Самым действенным средством удержания Японии от войны явилось бы, отметил Литвинов, заключение договора о ненападении между США, Советским Союзом, Китаем и Японией. Это коренным образом изменило бы ситуацию, способствовало бы улучшению положения не только на Дальнем Востоке, но и в бассейне Тихого океана в целом. Желательно было бы дать понять Японии, заметил Литвинов, что США готовы сотрудничать с Советским Союзом. Хорошо, если бы американская эскадра или хотя бы один военный корабль нанесли следующей весной визит во Владивосток или Ленинград. Для Буллита это предложение было неожиданным, и он уклонился от ответа. Важно было бы получить, сказал Литвинов, заверения от США, Англии и Франции не предоставлять японскому правительству займы и кредиты на военные цели. Буллит не стал обсуждать и это предложение. Вообще посол придерживался тактики больше слушать и как можно меньше высказывать свое мнение. Ему хотелось собрать обширную информацию, выяснить, что советское правительство ожидало от сотрудничества с США. В Москве стремились прежде всего к заключению тихоокеанского пакта о ненападении на Дальнем Востоке. И Литвинов горячо доказывал важность этого пакта для всех заинтересованных государств. Однако Буллит ограничился только одобрением этой идеи. Он хотел также знать, каковы перспективы торговли США с СССР. Нарком заявил, что успешное ее развитие возможно лишь при условии предоставления американцами долгосрочных кредитов26. Накануне приезда Буллита в Москву советское правительство изучало возможности и перспективы торговли с США. 9 декабря в коллегию НКИД была представлена докладная записка по поводу торговли с США. Ее авторы, заведующий 3-м Западным отделом Е.В. Рубинин и заведующий экономической частью Б.Д. Розенблюм, обращали внимание на то обстоятельство, что американская торгово-договорная система имеет некоторые особенности и с этим нельзя не считаться. Прежде всего США ни одной стране не предоставляют конвенционных скидок; с 1923 г. они придерживаются условно принципа наибольшего благоприятствования и в отдельных случаях применяют дискриминационные антидемпинговые тарифные ставки. К тому же, писали они, необходимо учитывать, что важными продуктами советского экспорта являются пшеница и нефть. Но нефть составляет значительную часть и экспорта США. По другим основным видам экспорта (например, лес) СССР выступает конкурентом Канады, причем в неблагоприятных для себя условиях. Все это следует принимать во внимание при решении вопросов о торговле с США. Принцип наибольшего благоприятствования имеет при этом значительно меньшее значение27. На следующий день на заседании коллегии НКИД состоялось обсуждение вопроса об экономических отношениях с США. Было поручено заведующим 3-м Западным отделом и экономической частью наркомата в предварительном порядке обсудить с участием представителей НКВТ вопросы будущего торгового договора с США, а также возможные формы финансово-кредитного соглашения и перспективы развития советского экспорта в США. Члены коллегии поддержали предложение о создании торгпредства в составе полпредства СССР с оставлением в неприкосновенности системы Амторга28. По этому вопросу уже шла оживленная переписка с госдепартаментом. Еще 22 ноября Розенгольц и Крестинский телеграфировали находившемуся в Вашингтоне Литвинову, чтобы он немедленно договорился с госдепартаментом о включении торгпредства в консульскую конвенцию и постарался получить согласие на назначение торгпреда и учреждение торгпредства. Переговоры об этом продолжались в течение месяца. 20 декабря госдепартамент согласился на назначение торгового атташе или советника при полпредстве, оговорив, что он не должен вступать в сделки с американскими фирмами и что его контора будет находиться в Нью-Йорке, а не в Вашингтоне29. Во время беседы с Буллитом 21 декабря Литвинов уведомил посла, что США не могут надеяться на большой товарооборот с СССР. Успешная торговля в крупных размерах возможна лишь при условии предоставления долговременных кредитов. Эти слова вызвали разочарование у посла, ибо деловой мир США рассчитывал на обширный русский рынок. Буллит телеграфировал о беседе с Литвиновым в Вашингтон. В тот же вечер Литвинов дал большой прием в честь посла. На следующий день Буллит отбыл в США через Париж. Итак, посол провел в Москве 10 дней. Время было максимально спрессовано. Каждый день приносил ему новые и необычные впечатления, которые он не успевал в полной мере осмыслить и оценить, оказавшись в эпицентре большой политики. О нем говорили в дипломатическом корпусе, журналисты писали статьи. В Париже Буллит узнал, что Сталин 25 декабря дал интервью корреспонденту газеты "Нью-Йорк Тайме" Уолтеру Дюранти, в котором лестно отозвался об американском после и оценил значимость признания Америкой Советского Союза. А ведь он в этом принимал непосредственное и активное участие!30 Сталин беседовал с Дюранти около часа31. В центре внимания были вопросы дипломатического признания СССР со стороны США и значение этого акта. Возобновление отношений между двумя странами, отметил Сталин, имело большое значение; оно повысило шанс на сохранение и укрепление мира, открыло дорогу для торговли, экономического сотрудничества и взаимной кооперации. На вопрос, каков возможный объем советско-американской торговли, последовал ответ: заявление Литвинова на Международной экономиче ской конференции летом 1933 г. в Лондоне (о готовности СССР разместить за границей заказы на сумму в 1 млрд долл. на основе получения долгосрочных кредитов) остается в силе. "Мы величайший в мире рынок, сказал Сталин, — и готовы заказывать и оплатить большое количество товаров. Но нам нужны благоприятные условия кредита". В наше время многие государства, отметил он, не платят по кредитам или приостановили платежи, но СССР не намерен так поступать. Добыча золота в стране увеличилась вдвое по сравнению с царским временем и достигла 100 млн руб. в год. Кредитные обязательства страны составляют немногим более 450 млн руб., мы их выплатим к концу 1934 г., сказал Сталин. Советское правительство готово заказывать и оплачивать товары, но для этого нужны благоприятные условия. На вопрос, какое впечатление произвел на него Буллит, Сталин ответил: хорошее, "он говорит не как обычный дипломат, он человек прямой, говорит то, что думает". Дюранти интересовался также мнением Сталина о Японии, на что он сказал, что СССР хотел бы жить в дружбе с этой страной. Однако это зависит не только от Москвы. Воинствующие элементы в Токио открыто призывают к экспансии, и существует опасность нападения на территорию советского государства. Надо готовиться к самозащите. "Со стороны Японии будет неразумно, если она нападет на СССР". Выступая на IV сессии ЦИК СССР 28 декабря, глава правительства заявил, что восстановление дипломатических отношений между США и СССР создает благоприятные предпосылки для развития торгово-экономических связей и укрепления мира. Литвинов на том же форуме депутатов, приветствуя нормализацию отношений с США, отметил, что Америка увидела в СССР "могучий фактор сохранения мира и соответственно оценила сотрудничество с нами в этом направлении". Сделав исторический экскурс, он показал несостоятельность политики изоляции Советского Союза. Америка долго упорствовала и стойко держалась его непризнания. Но Рузвельт как реальный политик, убедившись в бесплодности недальновидной позиции республиканцев, встал на путь устранения аномалии в отношениях между двумя государствами32. Этот смелый, решительный, дальновидный шаг президента США высоко оценил Сталин. После возвращения Литвинова из Вашингтона он вызвал наркома в Кремль и долго беседовал с ним, расспрашивая о переговорах и президенте Рузвельте как личности, государственном деятеле и политике. Поблагодарив за успешную дипломатическую миссию в Вашингтоне, Сталин в знак признательности и расположения сказал, что отныне просит Литвинова пользоваться государственной дачей близ подмосковного поселка Фирсановка, которая до этого считалась сталинской33. В кругу близких Литвинов в шутливой форме заметил: "Ермак за покорение Сибири был удостоен шубы с царского плеча. Меня же Сталин одарил Фирсановкой". В конце декабря, когда Буллит находился в Париже перед тем, как вернуться в США, в Москве шла подготовка к отъезду в Америку первого советского полпреда в Вашингтоне А А Трояновского. У Трояновского была большая и интересная биография. Александр Антонович родился в Туле 2 января 1882 г. в семье военного34. Учился в кадетском корпусе в Воронеже, затем в Михайловском артиллерийском училище. С увлечением изучал историю и литературу, естественные и технические науки. По окончании училища в 1903 г. был направлен в артиллерийскую бригаду Киевского военного округа, но вскоре разоча ровался в армейской службе и, движимый любознательностью, поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Киевского университета. Там Трояновский сблизился с демократически настроенными студентами. В 1904 г. вступил в ряды РСДРП. Когда началась русско-японская война, его направили на фронт, где он лично увидел стойкость и героизм русского солдата и бездарность высшего командования. Война произвела огромное впечатление на молодого Трояновского. Он подал прошение на имя Николая II об отставке, заявив, что совесть не позволяет ему служить в армии, которая может быть брошена против своего народа. 14 сентября 1906 г. последовал приказ военного министра об увольнении поручика Трояновского со службы и предании суду. 16 октября его отставка была принята "высочайшим указом". Начался "допрос" за проявленную дерзость. Был составлен обвинительный акт. Суд вынес приговор о лишении бывшего поручика всех прав офицера в отставке. С тех пор Трояновский стал "неблагонадежным". Начался новый этап в его жизни. Он принимал активное участие в борьбе против самодержавия. В августе 1907 г. был арестован. В феврале 1909 г. суд приговорил его к ссылке, и вскоре Александр Антонович был отправлен в Енисейск по этапу. Его поселили "под особым наблюдением" в д. Таханово Вельской волости. Через два года Трояновский бежал из ссылки, с помощью товарищей оказался в Париже, где принял участие в издании журнала "Просвещение". В эмиграции ему суждено было пробыть четыре года. За это время он познакомился со многими руководителями российской социал-демократии — Лениным, Плехановым, Луначарским, Мануильским. Изучил английский, французский и немецкий языки. Много работал в библиотеках, занимаясь самообразованием. С увлечением читал работы по экономике. Когда разразилась мировая война и на конференции заграничной секции РСДРП (февраль — март 1915 г.) большевики выдвинули лозунг о поражении своего правительства, Трояновский и ряд других членов партии не согласились с этим. Он временно примкнул к меньшевикам. В Россию Трояновский вернулся в 1917 г. После Октябрьской революции некоторое время служил в Красной Армии, преподавал в Московской артиллерийской школе. Затем в июле 1919 г. был назначен заместителем руководителя Главного управления архивных дел. Он много сделал по спасению документального богатства России, обследовав ряд архивов в провинции. В следующем году его пригласили работать в Наркомат рабоче-крестьянской инспекции, откуда он перешел на работу в Госплан. 10 мая 1924 г. Трояновский стал членом коллегии Наркомата внешней торговли СССР и одновременно возглавил Государственную торговую импортно-экспортную контору Госторга РСФСР, проявив большие способности в налаживании и расширении внешней торговли, ведении переговоров с иностранными фирмами. А.И. Микоян высоко ценил его как очень инициативного и образованного работника в области торговли и экономических связей с западными странами. Впоследствии Микоян напишет в своих воспоминаниях: "Я уважал Трояновского за его знания, за умение руководить. Он был квалифицированным, способным и знающим работником. Для нас не было секретом, что его знания превалировали над моими, хотя по служебному положению я стоял выше"35. Когда в 1927 г. встал вопрос о назначении полпреда в Японию, нарком Г.В. Чичерин предложил Трояновского. Нарком при этом говорил, что на Дальнем Востоке и Тихом океане скрещиваются интересы многих крупных государств, японская дипломатия является сложной и тонкой. Поэтому советское правительство и его интересы в Токио должен представлять человек с глубоким знанием экономических и политических вопросов. 3 января 1928 г. Трояновский отправился в Японию. На пограничной станции в Маньчжурии полпред заявил японским журналистам о необходимости усиления экономических отношений между двумя странами и урегулирования их посредством заключения торгового договора. При встрече с главой правительства Танакой он предложил подписать договор о ненападении. Но последовал ответ: не пришло еще время. Все свои силы и знания Трояновский направил на налаживание добрососедских отношений между двумя странами. В качестве полпреда он пробыл в Японии с 1928 по 1933 г., став за это время признанным специалистом по дальневосточным проблемам, внешней политике Японии, международным отношениям. С его мнением считались. Он показал себя осторожным и трезво мыслящим политиком, тонким дипломатом, познавшим тайны профессии. Умел глубоко и всесторонне анализировать события, предвидеть их дальнейшее развитие и последствия. Отличительной особенностью его мышления являлось умение выделить главное в калейдоскопе событий и найти оптимальное решение. Его отличали особая наблюдательность, редкая интуиция. Он завоевал уважение дипломатического корпуса. В феврале-1933 г. Трояновский покинул Японию. По словам японского посла в Москве Ота, "Япония прощалась с Трояновским с большим сожалением", "он оставило себе очень хорошую память"36; "ни один иностранный посол не имел такого авторитета и вокруг себя такой теплой атмосферы"
Читать дальше