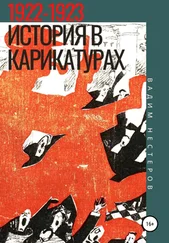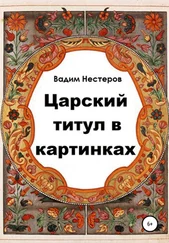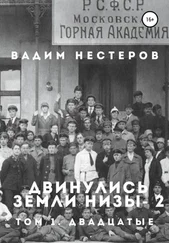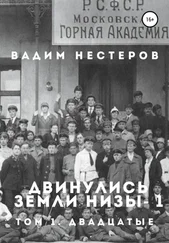Федор Алексеевич Головин.
Портрет работы неизвестного автора.
Тридцативосьмилетний Федор Головин был не только дипломатом. Военное дело он, как и любой тогдашний «служивый человек» знал по должности — любой дворянин, а уж тем более боярин обязан был пожизненно служить Отечеству «мышцей бранной». Поэтому прекрасно понимал, что прямого столкновения с маньчжурами плохо укрепленный и бедный припасами и оружием Нерчинск просто не выдержит. Албазин, по большому счету, выстоял потому, что ему помогал Нерчинск. Нерчинску помогать было уже некому. Поэтому оставалось продолжать переговоры с тем, что есть. А козырь у Головина и Власова был, по сути, один — так и не сдавшийся Албазин, который, несмотря ни на что, все еще держал этот сумасшедший немец. Держал, наверное, уже только на одном своем прусском упрямстве.
Хотя… Какой там немец! Давно уже Бейтон стал русским. Русским по всем статьям — и чисто формально (русским тогда считался любой поданный России, исповедующий православие), и, главное, по своей внутренней, глубинной сути. Кстати, православным новокрещенный Бейтон был настоящим, верил он искренне и истово.
На исходе этого казавшегося бесконечным «сидения» в крепости умер священник. Албазинцы остались без духовного кормления, а люди продолжали умирать. И тогда Бейтон пишет Власову записку, которую историки долго не воспринимали всерьез: «И те умершие люди похоронены в городе в зимовье поверх земли без отпеву до твоего разсмотрению. А ныне я с казаками живу во всяком смрадном усыщении. А вовсе похоронить без твоей милости и приказу дерзнуть не хощу, чтоб, государь, в погрешении не быть. А хоте, государь, ныне и благоволишь похоронить, да некем подумать и невозможно никакими мерами [15] Русско-китайские отношения в XVII веке: Материалы и документы. В 2-х томах / Сост. Н.Ф.Демидова, В.СМясников. М.: Наука, Т.2, 1972, с.123
».
Наверное, как всякий неофит, Бейтон был не очень хорошо знаком с православными канонами. Однако наверняка усвоил, что нет для истинно верующего доли страшнее, чем быть погребенным как собака, без исповеди, причастия, без опевания. Потому и не хоронил людей, потому и дышал смрадом — боялся совершить страшное. Коль уж жизни солдат своих не сберег, так хоть души их не погубить проклятьем вечным.
Как я уже говорил, к этой записке относились недоверчиво — слишком уж невероятно изложенное в ней. Меж тем один из моих учителей, профессор Александр Рудольфович Артемьев, читавший нам в университете историю средневековой Руси, вот уже много лет копает Албазин. В 1992 году во время археологических раскопок им была обнаружена землянка, почти полностью заполненная скелетами. Между ними были установлены горшки, скорее всего — с поминальной кутьей, а в том, что это были именно защитники крепости, сомневаться не приходится: на останках были найдены 25 нательных крестиков, серебряных и бронзовых. [16] Артемьев А.Р. Новые материалы о героической обороне Албазинского острога в 1685 и 1686–1687 годах (http://ostrog.ucoz.ru/publ/1–1-0–6)

Албазинский острог. Полуземлянка с останками непогребенньх в 1886–1687 г.г. защитников острога. Процесс расчистки. Вид юго-востока.
Автор Артемьев Александр Рудольфович Дата. 1992 г.
Все тела были погребены по православному обряду под залпы воинского салюта на территории Албазинского острога.
Так что спи спокойно, давно почивший Афанасий свет Иванович, упокоились твои бойцы в мире, и за это тебе точно «в прегрешении не быть».
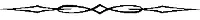
Закончилась страшная албазинская эпопея Бейтона 27 августа 1689 года. В этот день в вотчине воеводы Власова был подписан первый в истории договор России с Китаем — Нерчинский. Лукавый Федор Головин, будущий сподвижник Петра, генерал-фельдмаршал и первый кавалер высшей награды империи — ордена Андрея Первозванного, добился, наверное, максимально возможных в той ситуации результатов. Нерчинск удалось отстоять, он оставался крайним восточным пунктом русских владений. Но вот Амур России пришлось оставить на долгие годы. Отдельно оговаривалась судьба Албазина — крепость полагалось срыть.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
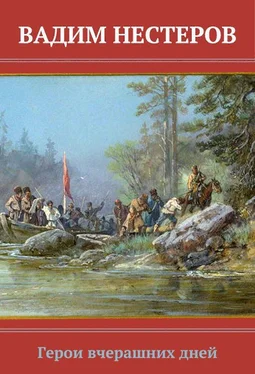


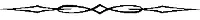
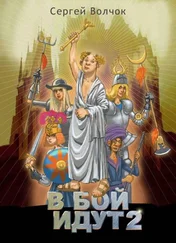



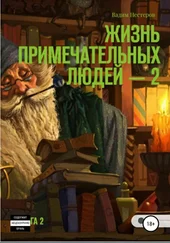
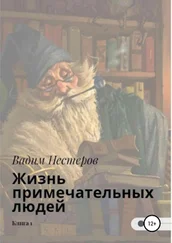
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 2 [СИ]](/books/434164/vadim-nesterov-kuda-idem-my-2-si-thumb.webp)