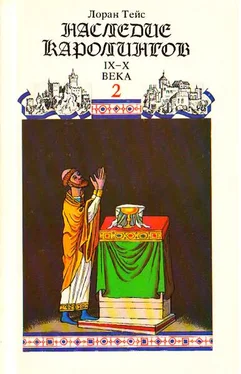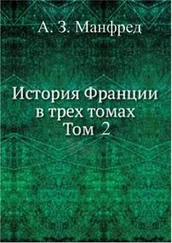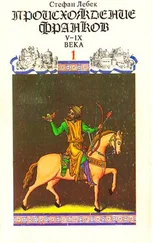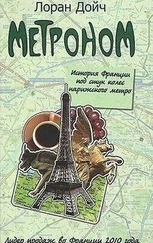Священная фигура короля становится мифом, символом, приукрашенным монахом Эльго из Флёри. Около 1030 года, описывая жизнь Роберта Благочестивого, он как можно ближе притягивает ее к идеалу святости, показывая короля, пытающегося искупить свой грех — кровосмесительный союз с Бертой из Блуа — силой молитв и умерщвления плоти. Ибо только через общение с Богом король может вымолить у Него благодеяния для своего народа, — он, краеугольный камень на вершине земной иерархии, отражение Небесного Града, которому являются ангелы.
Так думали и выражались самые просвещенные люди того времени, — нам это зачастую трудно понять. На самом деле институт королевской власти всячески поддерживался и охранялся Церковью, которая пыталась избавить его от растущих мирских соблазнов и распрей. Первые Капетинги, и в особенности Роберт, сам учившийся у Герберта Реймсского, соученик будущих епископов и аббатов, был готов к подобному преображению гораздо лучше, чем Каролинги, так как грандиозное восхождение последних долго основывалось на самодостаточном законном праве преемственности. Около 1030 года аквитанец Адемар Шабанский выразил, похоже, распространенное в то время чувство: «Считается, что причиной падения потомков Карла Великого была их неблагодарность милости Божией. Они пренебрегали Церковью и не строили новых храмов». Гуго же, напротив, был «другом св. Церкви и ревностным поборником справедливости». Еще в Реймсе около 990 года оправдывали изменение правящей династии тем, что св. Реми в своем завещании написал, будто правящий род будет низложен, если он будет угнетать Церковь. И Карл Лотарингский, еще больше чем его брат Лотарь, пренебрегал Церковью, даже если и не противоречил ей. Тем самым он показал себя недостойным королевской власти, как утверждает Адальберон Реймсский в Санлисе в июне 987 года. Ибо королевская власть лишь для тех, «кто отличается не только благородством родового происхождения, но и своими духовными добродетелями». «Сила души превосходит силу тела», скажет позднее Адальберон Реймсский королю Роберту. И эта таинственная сила названа добродетелью у Ришера, как и у Адальберона Ланского. Добродетельный король, Давид и Христос в одном лице, более Христос, чем Давид, посвященный в Божественный Промысел, смиренный и величественный, монах и епископ, необходимый для того, чтобы мир сохранил смысл, свою опору — христианский народ, общество и порядок.
летописцы давно пытались описать этот порядок, связывая его с движением ко спасению. Сохраняется старинное различие между духовенством и мирянами. Однако проявляются и свои нюансы в каждой из этих двух групп. Внутри Церкви в конце века обостряются отношения между монахами и светскими церковниками, и об этом свидетельствует яростный конфликт между аббатом из Флёри Аббоном и епископом Арнулем Орлеанским. Монахи требовали полной независимости от епископата, считая себя, вдохновленные Одилоном из Клюни, советниками королевской власти, водителями христианского народа, а более приземленно — отказываясь уплачивать десятину. Снова обозначилась старая иерархия между чистыми девственниками и просто воздерживающимися, подверженными влияниям века. Разумеется, епископы, особенно на севере, повернули аргументы в обратную сторону, подозревая монахов в сговоре с новыми властями, инициаторами беспорядков. Сложно стало стричь всех мирян под одну гребенку. Милитаризация общества, вооруженное насилие, в частности по отношению к церквям, показывали, что люди неоднородны. В них самих все больше различаются две противоположные стороны, что описывалось, кстати, современниками, в библейских образах или же древнеримских. Одним из первых на этом пути, насколько нам известно, был монах Эмон, преподававший в Осере в 840–860 годах. Он писал, что как Ромул разделил римлян на три категории, так и Церковь тоже разделилась на три группы: священники, воины, земледельцы. Те, кто воюет, те, кто пашет землю; вооруженные всадники и безоружные крестьяне. Это разделение еще более очевидно у Аббона из Флёри и около 1030 года у Адальберона Ланского и Жерара из Камбре. «Воины» это слово долгое время произносилось Церковью с пренебрежением, а некоторые даже играли словами «воинство» («militia») и «лукавство» («malicia»). От этих злодеев, обрушивающихся на беззащитных, — все зло. Озабоченные их интегрированием в общество, допуская, что в социальном устройстве противоположные силы тоже являются необходимостью, другие называли воинов более благородно — латинским словом «bellatores» («ратники»). Так вырисовывалась известная тройственность комбинаций и различных схем. К сожалению изобретательных ученых, такие тексты очень редки и, выражая подобные представления, отличаются риторическим красноречием и напыщенностью стиля. Перед лицом распада королевской власти, политических изменений в обществе они сами выражали это желание — навести порядок; желание утопическое. Наведение порядка возвратило бы к жизни сотрудничество короля и Церкви — как некогда, как всегда.
Читать дальше