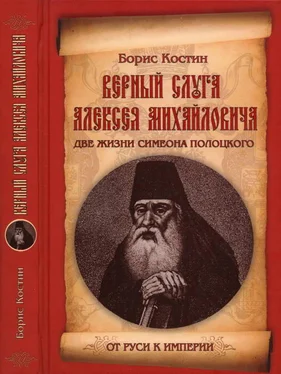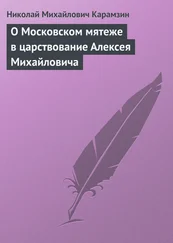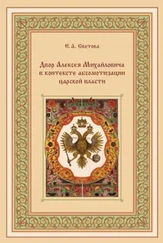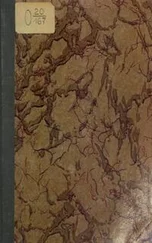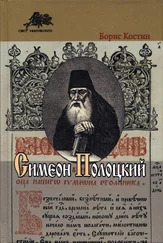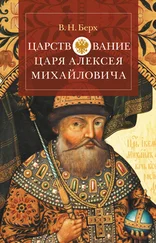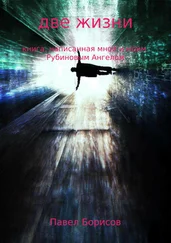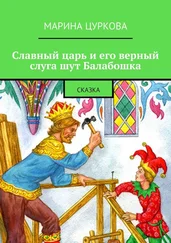Он призывал власть предержащих к уважительному отношению к труду художника, которому «в народе почитаемому быти».
Попытаемся вникнуть в суть рассуждений Симеона Полоцкого.
Возможно ли изменить Россию к лучшему? Возможно ли духовное возрождение народа русского и обновление государства Российского? Возможны ли условия, когда человек, отбросив никчемное понятие: «День прошел — и слава Богу», осознает подлинную значимость земного и небесного жития? Утвердится ли в сознании русского человека восприятие мира как творения Божиего и бесценного дара? Не заглохнут ли на корню, как это не раз бывало на Руси, идеи просвещения народа?
Отметим, что в описываемое время духовенство еще не являлось родовым наследственным сословием и священниками по большей части становились прихожане, осененные Провидением, но имевшие, однако, слабые познания в христианских канонах. Церковь была единственным местом, где по существу государство общалось с народом, где с амвона, наряду с проповедями, оглашались царские указы, распоряжения воевод.
Не утомлять умы слушателей, а растолковывать прописные евангельские истины, заповеди Господни и житие Иисуса Христа, черпать вдохновение в Его деяниях и притчах, поведать о многообразии мира и краткости жития — таковы лишь некоторые воззрения Симеона Полоцкого на то, что должна заключать в себе проповедь. Конечно, вровень с познаниями настоятеля Заиконоспасского монастыря могли встать лишь немногие, но Симеон Полоцкий вовсе не стремился подавлять своим авторитетом приходских священников. В своих книгах «Вечеря душевная» и «Обед душевный»
Симеон Полоцкий предстает как блестящий оратор, который словом живым, легким, свободным доходчиво объясняет суть даже самых сложных понятий и явлений. Церковная кафедра позволяла ему развернуться во всей широте своего таланта. До Симеона Полоцкого такого златоуста Россия еще не знавала.
21 декабря 1667 года, в день памяти святого Петра, митрополита Московского, Симеон Полоцкий в присутствии царя и восточных патриархов произнес блестящую речь. Читаешь ее, и кажется, будто из поднебесной звучит голос человека, разорвавшего вериги, в которых цепенела русская мысль:
«Настало время яко возмощи нам крепко стати противу кознем дьявольским и вся враги наши победиши. Молитвы святого Петра возвышают род христианский; его молитвы поспешествуют желаниям сердца Твоего».
А далее Симеон Полоцкий обращается к патриархам, предпринявшим дальнее и вовсе не безопасное путешествие на Большой Московский собор:
«Вы, яко добрые пастыри, приняша извещение о явившейся во стаде Христовом проказе… придоша разсудили проказу и исцелили. Придоша, да на праздной земли насадить доброплодное древо от него же быть алчным слова Божия нескудно напитанными быти».
Свою духовную миссию Симеон Полоцкий выполнил сполна, впрочем, как и оставил по себе память, заведя в Заиконоспасском монастыре свой собственный синодик, поминальную книжицу, которую пополнял ежегодно именами всех русских святых, страстотерпцев, благоверных и инчих.
Мы уже отмечали обширную переписку, которую вел Симеон Полоцкий с архиереями и иерархами Русской православной церкви, как единомышленниками, так и не разделяющими его взгляды, которые одаривали его бесценной информацией со всех уголков России. Собранная по крупицам воедино, она давала понять: в сознании русского человека происходили серьезные изменения, и, конечно, в первую очередь они наметились в кругах людей государственных, которые не отреклись от правил жития, предписанных Домостроем, но которым были не чужды мирские утехи и тяга к познанию.
Церковь предосудительно относилась к светским книгам, а Симеон Полоцкий отстаивал свое мнение о том, что отцам христианской церкви Григорию Богослову и Василию Великому были не чужды ни афинская мудрость, ни мирские учения. В «Вечере душевной» Симеон Полоцкий осуждал лишь только ту мудрость (читай: философию и науку), «которая есть вражда на Бога и закону Божиему не покоряется». Своими уникальными переводами иностранных книг для душеполезного чтения Симеон Полоцкий проложил путь, по которому в Россию устремился поток литературы добротного содержания. Что же касается фривольных сочинений и иезуитских поделок, то для них границы государств ни в какие времена не существовали.
По совершенно необъяснимой причине Иоанн Златоуст пренебрежительно относился к философам, называя их «трапенежными псами». Современник Симеона Полоцкого протопоп Аввакум вообще презирал литературное умствование, называя его «грехом и пагубой». «Не ищите риторики и философии, ни красноречия, — писал он в “Житии”, — но здравым истинным глаголом последуще, поживите. Понеже ритор и философ не может быть христианином… яко риторство и философство — внешняя блядь, свойственна огню негасимому…»
Читать дальше