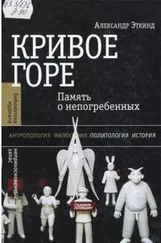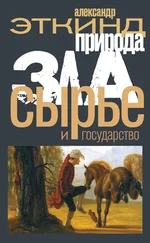По своей логической структуре, название СГ продолжает традицию русских заглавий, которые сочетают подвижность (жизненность) субъекта с неподвижностью (безжизненностью) предиката. Так любил называть свои тексты Пушкин: Медный всадник, Каменный гость, Пиковая дама, Скупой рыцарь; сравните: Черная курица, Мертвые души, Очарованный странник, Человек в футляре, Кубок метелей, Огненный ангел, Пленный дух, Облако в штанах, Форель разбивает лед, Золотой теленок, Доктор Живаго, Железный поток; контрпримеры — Живой труп или Поднятая целина. Оксюморон названия воспроизводит центральную конструкцию фабулы. Предикат обозначает операцию, переводящую живого субъекта в состояние смерти. Подробнее см.: А. Эткинд. Поэтика заглавий — в печати.
Там же, 48.
Сравните воодушевление, с которым цитировались описания гопака из Тараса Бульбы в: Лотман, Минц. Человек природы в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока, 253–255.
А. Белый. Мастерство Гоголя, 70–71.
А. Бахрах. По памяти, по записям. Литературные портреты. Париж: Lapresse libre, 1980, 52.
Белый. Почему я стал символистом…, 481.
Белый. Мастерство Гоголя, 46.
Там же, 53.
Там же, 66. Как бы ни была мотивирована в сознании Белого связь «оторванства» с «темой гор», в этой ретроспективе понятней становится смысл фамилии Дарьяльского. Другой подход к этой фамилии, связывающий ее с подтекстом Лермонтова, см.: Лавров. Дарьяльский и Сергей Соловьев.
Белый. Мастерство Гоголя, 48, 51.
А. Д. Скалдин. О письмах А. А. Блока ко мне — Письма Александра Блока. Ленинград: Колос, 1925, 175.
Н. Н. Гусев. Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891–1910. Москва: ГИХЛ, 1960, 728.
Блок. Собрание сочинений, 5 , 484. Об их отношениях см.: Блок и П. И. Карпов. Вступительная статья, публикация и комментарии К. М. Азадовского — Александр Блок. Исследования и материалы. Ленинград: Наука, 1991, 234–291.
П. Карпов. Пламень. Из жизни и веры хлеборобов. Санкт-Петербург: Союз, 1914, 23.
Там же, 177.
Там же, 67, 30.
Там же, 163–165.
Там же, 75, 91.
Там же, 235.
Г. Чулков. Сатана. Москва: Жатва, 1915.
Там же, 52, 104.
Там же, 39.
Там же, 40.
Там же, 94.
История литературы знает не только досадные заимствования из прошлого, но и счастливые предвидения будущего. В своем рассказе Гриша [1861], повествующем об опасности и разврате раскола, Мельников-Печерский угадал даже имя героя, ставшего известным полувеком спустя.
Белый. Петербург , 269.
Robert A. Maguire, John Е. Malmstad. Petersburg — in: Andrey Bely. Spirit of Symbolism. Cornell University Press, 1987, 127; авторы этого проницательного анализа Петербурга прошли мимо Шемахи. Интересны и другие приметы персидского гостя. Шишнарфнэ представлен Дудкину так: «Персианин из Шемахи, чуть было недавно не павший жертвою резни в Испагани» (268). «Поганью» Дудкин в той же главе называет Липпанченко (284, 304). Шишнарфнэ — из погани, то есть из Липпанченко. Важна здесь и «резня»: Дудкин как раз собирается зарезать Липпанченко.
Толстой. О великороссийских беспоповских расколах в Закавказье, 52.
Белый. Петербург, 294.
Интертекстуальная игра Петербурга рассмотрена в работах Н. Пустыгиной, которая выявила важные подтексты романа (она указала, в частности, на Записки сумасшедшего, Бесы, Балаганчик и Вехи) и попыталась описать механизм цитации; шемаханская и петушиная темы в ее анализе отсутствуют: Н. Пустыгина. Цитатность в романе Андрея Белого «Петербург». Статьи 1 и 2 — Труды по русской и славянской филологии = Ученые записки Тартуского государственного университета, 414, 1977, 80–97; 513, 1981, 86–114.
Белый. Петербург, 267.
Там же, 298.
Maguire, Malmstad. Petersburg, 126.
На это указывают Maguire, Malmstad. Petersburg, 130–131. Имеющееся в одном из рукописных вариантов Петербурга (опубликовано в: Белый. Петербург , 676) разъяснение акта как сатанинского культа (с целованием козлиного зада и топтанием креста) остается вне контекста.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
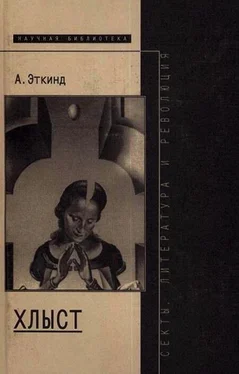





![Александр Эткинд - Природа зла. Сырье и государство [litres]](/books/405096/aleksandr-etkind-priroda-zla-syre-i-gosudarstvo-thumb.webp)
![Марк Эткинд - Александр Бенуа [с компиляцией иллюстративного материала]](/books/425308/mark-etkind-aleksandr-benua-s-kompilyaciej-illyustr-thumb.webp)