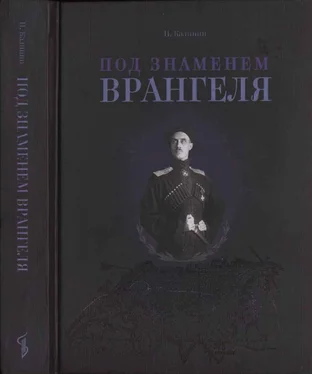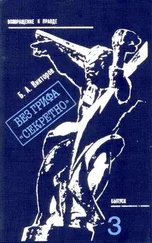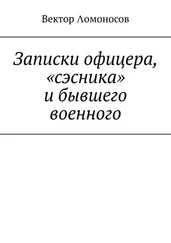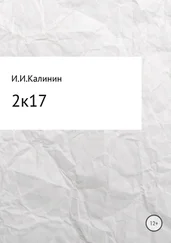Мы боремся за оскорбленные большевиками святыни, — невольно припомнились мне слова врангелевской декларации.
Этого Бабиева я знал по наслышке еще в мировую войну. Он служил, как и я, на кавказском фронте и отличался беззаветной удалью, порою вредной для дела.
Добропроклятый Бабий, — отзывались о нем кубанские казаки, ценя в нем личную отвагу и возмущаясь его безрассудством, с которым этот горячий осетин бросался в конную атаку горных позиций и губил без надобности народ.
Теперь он командовал наследием Андрея Шкуро, которого еще никак не могли забыть его партизаны.
— А где ваш вождь? — спросил я одного кубанца, глазея в сумерки вместе с толпой казаков на спуск «колбасы», которая пропутешествовала с нами в Сальково, а теперь ночью была не нужна.
Андрей Григорьевич скоро сюда прибудет… Вот, вот на днях его ожидаем.
Но ведь главнокомандующий уволил его в отставку.
Это не верно. Как же можно забраковывать такого полководца! Непременно Андрей Григорьевич вернется.
Очевидно это штабной информатор, — заметил мне Брусенцев, кивая головой на моего собеседника. — Помнишь, у Лермонтова в «Измаил-Бее»: «о нем скучают шайки удалые». Как могут шкуринцы забыть своего бога, который посылал им такой обильный урожай военной добычи! Врангель прогнал Шкуро, но его партизан обманывают, что вот, вот, он явится. Иначе, без надежды на грабеж, у них иссякает любовь к родине.
Возможно, что мой пессимист не ошибался. Врангель на первых порах не мог знать, пойдут ли в бой шкуринцы без Шкуро. Приходилось, по необходимости, обольщать их надеждами на возвращение их «батьки- командира».
«Колбасу», с которой производили наблюдения днем, на ночь убрали за ненадобностью. Однако опасность еще не совсем миновала. Конница Блинова могла выплыть в любом месте.
Комендантскую сотню штаба на ночь рассыпали в цепь вокруг станции. Выслали вперед дозоры.
Вы бы, батюшка, ложились, — обратился я уже поздно ночью к о. Андронику, видя, что он ходит по вагону, скрестив руки на груди.
Что-то не спится… Я ведь никому не мешаю. За ночь он не сомкнул глаз.
Я все время молился, — объяснял он утром причину своей бессонницы. — И вот видите, нападения не случилось… Отмолил господа, и ночь прошла спокойно.
О. Андроник Федоров — фигура, достойная внимания. Ходячая сатира так описывала донского «кор-попа», корпусного попа, как его называли за глаза решительно все:
Был он попик самый истый,
Обладавший рясой чистой;
Почитатель был постов,
Так что весил шесть пудов.
Крест на ленте кавалерской
Он имел за подвиг дерзкий,
И поэтому любил
На войне стремиться в тыл.
Последний признак — стремление в тыл ввиду опасности, — был самым характерным для «корпопа». О. Андроник, как пароходная крыса, всегда предчувствовал аварию на фронте и заблаговременно уезжал в тыл. На этот счет он, действительно, обладал даром предвидения. Потом у нас составилась даже поговорка:
— Корпоп в Евпатории — быть скверной истории.
В Новой Алексеевке он только поговорил о поездке, но не уехал. Дела, значит, на фронте лучше.
Действительно, вскоре пришло велеречивое известие о том, что наделавшая столько беды блиновская конница уничтожена. Так ли это, или лихим конникам удалось прорваться, — непосвященные в тайны официальных сводок точно не знали. Во всяком случае этот летучий враг нас больше не беспокоил.
Мы медленно, но верно продолжали двигаться дальше, делая примерно один перегон в сутки. На станциях кое-где еще висели старые воззвания красных властей об очередной измене батьки Махно, который осенью 1919 года раздвоил армию Деникина, чем помог большевикам, а потом стал резать и красных. Где находился фронт этого нынешнего нашего союзника, — для всех оставалось загадкой. Осважные газеты заставляли его брать то Полтаву, то Воронеж.
Посещая окрестные поселки, я обратил внимание на то, что стекла в рамах заклеены узенькими бумажками крест-накрест, так что напоминали почтовые конверты.
Это для чего?
Приспособились… Сколько времени ведь идет война… Чтобы стекла не лопались от орудийного гула. Когда они заклеены, меньше дрожат.
Меня очень интересовали отзывы населения о красных. На станциях мне приходилось беседовать преимущественно с семьями железнодорожников. Тут я нередко слышал отборную брань.
Чтоб им сто болячек в спину… Дай им господи весело жить, да скоро здыхать.
Но в громадной деревне Акимовке, в 20 верстах от Мелитополя, я почти целый день толкался среди крестьян, и если кто бранил большевиков, то осторожно, и явно стараясь угодить мне.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу