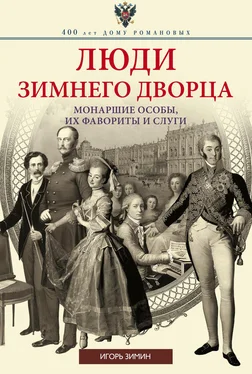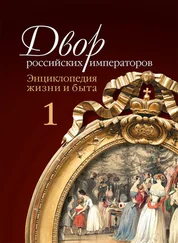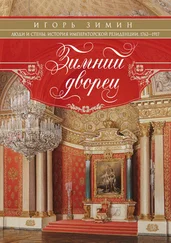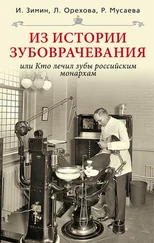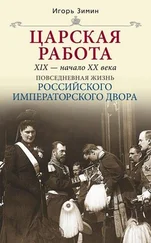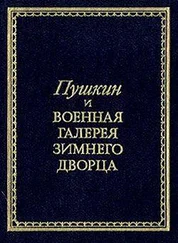Например, истово верующие императрицы Анна Иоанновна (1730–1740 гг.) и Елизавета Петровна (1741–1761 гг.) строго соблюдали все православные каноны в питании. Однако, если посмотреть на конкретный перечень продуктов, использовавшихся на кухне в постные дни, то надо признать, что этот перечень вполне обеспечивал царским поварам свободу «маневра» при приготовлении блюд.
При Екатерине II перечень продуктов, используемых на царской кухне в постные дни, если не расширился, то соблюдался уже не столь строго. И эта традиция сохранялась на протяжении всего XIX в. Более-менее строго при Дворе постились в Великий пост, но строгость поста также в основном зависела от степени личной религиозности.

Обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин
Продукты в Зимний дворец поставляли проверенные многими годами сотрудничества придворные поставщики. Зимний дворец обеспечивал их не только стабильными заказами, но и большими объемами поставляемой продукции. Однако бывало, что и в Зимний дворец «проскакивали» некачественные продукты. И таких примеров довольно много. Так, в августе 1833 г. министр Императорского двора кн. П. М. Волконский сделал резкое замечание обер-гофмаршалу А. Л. Нарышкину, поскольку «Цесаревич изволил заметить, что… поданы были незрелые фрукты и помятые ягоды». Кстати, цесаревичу тогда было 15 лет. Министр строго приказал, чтобы ягоды «были совершенно спелыми, а ягод измятых вовсе не принимать от подрядчиков» [418]. А буквально через несколько дней уже Николай I заметил, что в поданном к столу чае «затхлый запах и, будучи оным недоволен, Высочайше повелевает наблюдать, чтобы Придворная контора не принимала подобного чая от подрядчика, который обязан поставить самый лучший, и с хорошим запахом» [419].
Большое внимание уделялось сервировке повседневных и парадных столов. Для того чтобы царские столы выглядели соответствующим образом, в Сервизных кладовых имелось все необходимое.
Поскольку оценивали качество стола первые лица ежедневно и, что называется, непосредственно, то именно от них и исходили замечания, связанные с недостатками в его сервировке. Например, в октябре 1833 г. кн. М. П. Волконский передал «высочайшее повеление» обер-гофмаршалу А. Л. Нарышкину, чтобы «к Высочайшему столу не подавали мороженое на салфетках, но в хрустальных или фарфоровых компотницах, без салфеток» [420].
Все эти многочисленные сервизы и компотницы хранились не только в Сервизных кладовых, но и в специальных застекленных шкафах в коридорах и залах Зимнего дворца, демонстрируя во время ежегодных «открытых» маскарадов царские богатства простолюдинам, собиравшимся поглазеть на дворец. Посмотреть там было на что. В описях «Сервизной должности» значатся, например, золотая «тарелка 8-гранная» (1 фунт 49 золотников, т. е. 618,5 г); золотое «блюдо рукомойное, продолговатое пробы 86» (5 фунтов 35 золотников, т. е. 2 кг 48 г); золотой «подносик 8-угольный на ножках с 6 чарочками» (2 фунта 24 золотника); серебряное «подносное блюдо от камердинера Михайлова в 1764 г. пробы 78, продолговатое, местами золоченое» (6 пудов, 6 фунтов и 20 золотников, т. е. более 100 кг). [421]
Со временем шкафы, наполненные тяжелыми драгоценными изделиями, приходили в негодность и их меняли. Так случилось в 1835 г., когда обер-гофмаршал А. Л. Нарышкин доложил П. М. Волконскому, что «устроенные с давних времен в Сервизной шкафы, тумбы и другие помещения для золота, серебра, фарфору и другой посуды потеряли все приличия в своей наружности и представляют многие неудобства в самом размещении вещей» [422].
Министр доложил Николаю I, и тот дал «добро» не только на ремонт «шкафов и тумб», но и на ремонт всей «Сервизной должности». На работы отвели три летних месяца, когда царской семьи не было в Зимнем дворце. Проект ремонта и смету первоначально составил архитектор Л. Шарлемань, но Николай I предпочел вариант архитектора О. Монферрана. Отметим этот штрих. Император лично контролировал даже такие «пустяки», как вид дворцовых шкафов для посуды. Зимний был его Домом, поэтому Николай Павлович считал своим долгом принимать все «окончательные решения», связанные с его обликом.
В результате «во исполнение Высочайшего повеления» архитектор Монферран обязывался установить «в Большой мраморной зале, а если не достанет места, то и в Аванзале», «постоянные буфеты». За реализацией проекта наблюдал сам император. Как деятельный человек, он неоднократно вмешивался, корректируя проект Монферрана: «Его Императорскому Величеству благоугодно повелеть составить третий проект с тем, чтобы только четыре буфета были поставлены по концам залы так, чтобы буфеты заслоняли собой печи оной». Пока вносились поправки, время ушло. В ноябре 1836 г. печи «переделывать» было уже поздно, поэтому проект перенесли на 1836 г. В 1836 г., по отбытии высочайшей фамилии в загородные дворцы, все устроили так, как того желал император. Буфеты под посуду сделали из березового дерева «под лаком», стоимостью в 1500 руб. каждый. Через год все сгорело в страшном пожаре 17 декабря 1837 г. Еще раз подчеркнем, что в бесконечных «переделках» по Зимнему дворцу Николай Павлович активно вмешивался в работу архитекторов и тем приходилось учитывать его пожелания. После восстановления дворца восстановили и буфеты, украшавшие парадные залы Зимнего дворца вплоть до 1917 г.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу