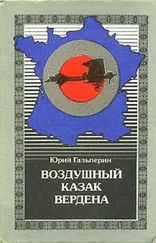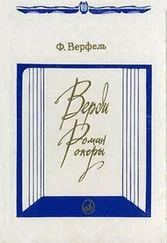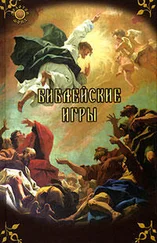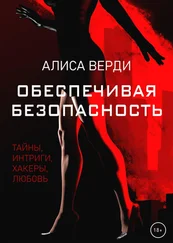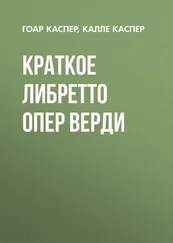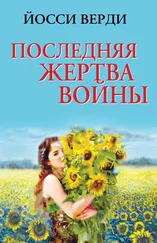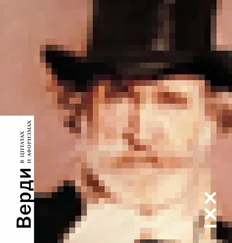Художнику, который работает на «потребителя», не обладая при этом острым и критичным самоконтролем, всегда грозит опасность опуститься столь низко, что он станет отвечать самому низкому уровню вкуса, который всегда имеет то преимущество, что его обладателей большинство. Противоположную тенденцию, появившуюся в век радиовещания и телевидения, представляет независимость от непосредственной реакции публики, которая не менее опасна, ибо ведет к прогрессирующей изоляции, ставящей под сомнение смысл и назначение самого художественного произведения. Искусство без публики является таким же уродством, как и публика, у которой нет ведущих корифеев, сознающих свою ответственность перед искусством. Верди был последним из Великих, чье ощущение формы и инстинкт выражения еще рождались чувствами массы, идентичностью предпосылок, которые связывали художника с теми, для кого он творил.
Широкая школа практики научила его не предаваться слезливой жалости к себе, без всякой досады трудиться, добиваться совершенства, без сожалений сокращать. Она же научила его со стоическим спокойствием признавать потерянным то, что уже невозможно было спасти. Когда он с нескрываемым раздражением отверг замысел пятьдесят лет спустя извлечь из забвения оперу «Оберто», он ясно понимал, как много из его ранних произведений навсегда утрачено для театральной практики. Он взывает о помощи к Бойто: «Ну на что нужны несчастной публике все эти «Оберто», «Мнимый Станислав» и тому подобное? И какой прок искусству или издателю от новой публикации подобных вещей? Достаточно вспомнить, что произошло с беднягой «Стиффелио»! Никакого вреда, действительно никакого вреда не произойдет, если от них не останется и следа.
На что Вам мое мнение? Вы знаете сами, что надо делать. Если бы это зависело от меня, я бы устроил из всего этого аутодафе и написал бы еще специально для этого случая похоронный марш. И я бы придумал его очень красивым, действительно от всего сердца!»
Точно так же, как «Оберто» и «Мнимого Станислава», он готов был предоставить собственной судьбе «Жанну д’Арк», «Альзиру», «Разбойников», «Корсара». Для художника нет ничего более неприятного, чем встреча с остатками преодоленного прошлого, за которые он не может со спокойной совестью отвечать в настоящем. Театр это не музей вызывающих почтение несуразностей. Если произведение по драматургическим или музыкальным причинам оказывается нежизнеспособным, то даже в творчестве бессмертного ему принадлежит лишь эпизодическая роль, и Верди был бы первым, кто признал этот закон.
Опера со всеми ее условностями оставалась для него реальностью, художественной необходимостью, сомневаться в которой ему никогда не пришло бы на ум. Никому не доводилось пройти больший путь, чем он, никто не творил с более ясным пониманием границ, которые он шаг за шагом расширял, этот самый реалистический мечтатель из всех, кто когда-либо творил художественные произведения. А за всеми достижениями такого масштаба и кажущейся противоречивостью стоит, почти преднамеренно скрываясь, человек легендарного величия, отмеченный таким единством воли и действия, которое не знает никаких компромиссов.
Он оставил нам в наследство мелодраму как живую и совершенную форму театра, со всеми ее достоинствами и проблематичностью. Эстетика Верди, как и всякая эстетика, была привязана ко времени. Но его этика была самой вековечной из всех, что существуют: говорить правду. Если бы его спросили о том, что он как художник завещает потомкам, он сказал бы: «Возьмите, что Вам может пригодиться, а остальное пусть покоится в мире».
На вопрос о жизнеспособности искусства ответ может дать только практика, и к сценическому искусству это относится в гораздо большей степени, чем к любому другому. Семь опер Верди с момента их появления непрерывно идут на сцене; «Риголетто», «Трубадур», «Травиата», «Бал-маскарад», «Аида», «Отелло», «Фальстаф». Целый ряд других — «Эрнани», «Макбет», «Симон Бокканегра», «Сицилийская вечерня», «Сила судьбы», «Дон Карлос» — никогда не забывались в Италии, но в интернациональной оперной практике на десятилетия исчезали со сцены, пока с середины двадцатых годов нашего века вследствие все более широкого движения не заняли вновь свое место в репертуаре оперных театров. С тех пор стремление к возобновлению распространилось почти на все уже забытые оперы Верди, причем «Набукко», «Луиза Миллер», «Двое Фоскари», «Арольдо» обрели длительный успех на сцене. Но даже если ограничить число тринадцатью вышеназванными, то есть половиной из двадцать шести, что были созданы Верди, его вклад в оперный репертуар неповторим. Тем самым он более чем равноправно стоит рядом с Вагнером, который благодаря несравненному пониманию сцены не допустил ни одного промаха, ибо все его одиннадцать произведений с неизменной живостью воздействия остаются на сцене, за исключением, может быть, оперы «Риенци», в последние годы редко появляющейся на афишах.
Читать дальше
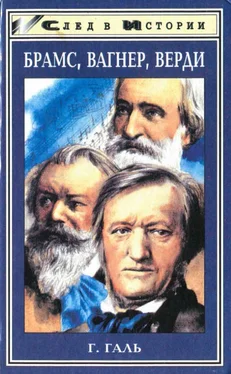
![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/95480/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod-thumb.webp)