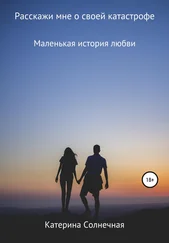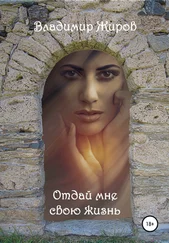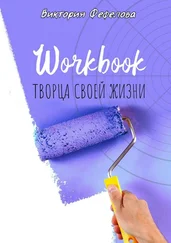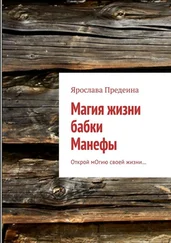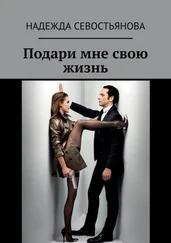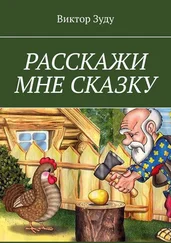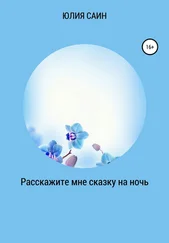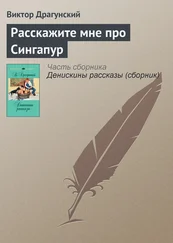Интервьюер: Угу.
Информант: И есть ленин… эти, ну участники обороны.
Интервьюер: Угу.
Информант: Так вот «жэбээлы», почему они получились, — потому что до… город, это и Селиванов, депутат-то, это он даже подтвердил уже теперь, город готовили к сдаче [21] Нам не удалось установить, действительно ли В. Н. Селиванов, председатель профильной комиссии по делам ветеранов и блокадников Законодательного собрания Санкт-Петербурга первого и второго созывов (1994–2002), говорил об этом и что именно было им сказано. Но в данном случае при анализе интервью для нашего исследования важно то, что информантка отсылает нас к современному дискурсу и к «официальному» источнику своих знаний.
.
Далее еще раз:
Информант: Так что вот, что готовили к сдаче, это тогда говорили, да это чувствовалось. Потому что когда Бадаевские сгорели, это же ой, какой кошмар был. Сколько дней они горели, горели, как народ весь ходил… Да, вообще, да… За что это Ленинграду? Ну а потом 49-й нам год.
Таким образом, Мария Михайловна еще раз проговаривает основную схему своей концепции биографии советского человека в сталинскую эпоху: хотя вера в идеологию существовала (с точки зрения сегодняшнего дня «всех оболванивали»), но что-то все-таки они «знали», «чувствовали» и даже иногда «говорили». Со ссылкой на депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Мария Михайловна черпает из сегодняшнего политического дискурса одну из существующих ныне версий событий, происходивших на Ленинградском фронте в 1941 году, о том, что город готовили к сдаче.
Можно сделать вывод, что блокада осмысливается Марией Михайловной в рамках ее «гражданской» биографии и оказывается вполне вписанной в смысловую структуру этой биографии как истории «политического прозрения». Возвращение к блокадному периоду (без вопроса интервьюера) происходит в виде рассуждений и общих оценок, касающихся политической истории блокады. То есть блокада, как событие на уровне истории города и страны, в тематическом поле взаимоотношений отношений общества и власти вполне может быть включена в ее рассказ. Рассказ о блокаде на уровне ее личного опыта и личных переживаний был начат, но не смог состояться. Таким образом, наша гипотеза, обозначенная номером один, получает подтверждение. Скорее всего, блокадный опыт Марии Михайловны до сих пор остается для нее настолько травматичным, что сильные эмоциональные переживания не дают рассказу состояться.
Мария Михайловна, начав рассказ о блокаде, сменила изначально избранное тематическое поле, говоря о блокаде исключительно в форме повествования о событиях, происходивших внутри ее семьи. Возможно, это говорит о том, что в этот момент она хотела рассказать о травматическом опыте. Однако сделать это Мария Михайловна не смогла, вернувшись в то поле, где она могла чувствовать себя более уверенно. Травматический опыт остался обозначенным, но невысказанным.
Интервью с Анной Никитичной [22] Архив Центраустной истории ЕУ СПб. Интервью № 0101042. Имя и отчество информантки изменены.
Попытку передать смещение этических норм в блокадное время можно почувствовать в интервью с верующими информантами. Эти интервью дает возможность рассказать о нарушении этических границ в привычной для информанта форме исповеди — покаяния перед Богом и людьми. Помещая блокаду в тематическое поле жизненного пути как череды испытаний и следующей за ними награды, которая может быть дана как после смерти, так и при жизни, верующие информанты рассказывают о том, что было для них самым трудным, включая таким образом блокаду в общую структуру своей биографии. «Жанр» исповеди не только допускает, но и предполагает рассказ о том, что не укладывается в границы этических и моральных норм, предписанных верующим. Далее я проанализирую одно интервью, записанное в общине евангельских христиан-баптистов, обращая внимание на те сюжеты, в которых информантка касается нарушения этических границ, неоднократно возвращаясь к этой теме по ходу интервью [23] Данное интервью не является нарративным, поэтому в данном случае я анализирую избранные фрагменты текста интервью, не приводя полного анализа.
.
Анна Никитична родилась в баптистской семье в 1932 году. Отец был репрессирован в 1937 году, в блокаду Анна Никитична жила с матерью, братом и четырьмя сестрами. Интервью записано в июне 2002 года Т. К. Никольской. Информантка получила благословение пресвитера общины на запись интервью. Данное интервью не было в полном смысле нарративным. Поскольку интервьюер не являлась членом основной исследовательской группы проекта и никогда ранее не использовала в работе метод нарративного интервью, то, несмотря на предварительный инструктаж, она в силу своего недостаточного опыта не следовала предложенной методике интервьюирования. В ходе интервью информанту многократно задавались вопросы, направляющие сюжетное развитие рассказа.
Читать дальше