В 1920 году советский Институт Труда опубликовал в официальном органе Центрального Статистического Управления РСФСР ("Вестник Статистики", сборник за 1920-22 года, статья Н. Савицкого) цифровые данные о питании московских рабочих до и во время Первой Мировой войны, разумеется, этот орган не был предназначен для широкой публики. По этим данным питание московских рабочих колебалось в размерах от 4330 калорий в день (мужчины-слесаря) до 3340 калорий (женщины-ткачихи). Зимой 1916-17 годов это питание упало максимум на 23% и минимум на 7%. В "голодную" военную зиму, - перед самой революцией, московский рабочий в среднем имел около 3500 калорий. Мир знает сейчас, что именно означают "калории". Три с половиной тысячи калорий не обозначали лукулловской диеты, но они не обозначали даже и недоедания: Россия была, во всяком случае, сыта вполне. Я видел сытость, и я читал о голоде. Я сам из крестьян - да еще из беднейшей полосы России, я видел всяческий рост крестьянства, я видел, как оно массами скупает разоряющуюся помещичью землю, и я читал ученые вопли о крестьянском разорении. Я жил и вращался среди рабочих, я знал, что о революции они думают точно так же, как и я: с ужасом и отвращением, и что они, точно так же, как и я, как и мои родственники-крестьяне, целиком состоят в числе тех девяноста процентов русского народа, о которых говорил Лев Толстой: они ЗА царя, за семью, за собственность, за Церковь, за общественное приличие в общественных делах. Но из газетных передовых, с университетских кафедр, со всех подмостков интеллигентного балагана России нам талдычили о нищем крестьянстве, о революционном рабочем, о реакционном царизме, о мещанской семье, об эксплуататорской собственности, о суеверии религии и о науке социализма - о науке о вещах, которых еще не было. И надо всем этим, со всех сторон неслись к нам призывы: выше вздымать кровавое знамя бескровной, социалистической революции, научно организованной и научно неизбежной.
Удивительно не то, что какой-то процент рабочей и прочей молодежи поверил этой науке и этим призывам. Удивительно то, что им не поверили девяносто процентов. Рабочему, как и всякому человеку в мире, не чуждо ничто человеческое. Как не поверить, если вам десятки лет философы и профессора, публицисты и ораторы твердят, твердят о том, что вы - самый лучший, что вы - самый умный, что вы есть соль земли и надежда человечества, что только эксплуатация человека человеком помешала вам, - как это утверждал Троцкий, - стать Аполлоном и Геркулесом, Крезом и Аристотелем. Германский рабочий, по-видимому, поверил: и социалистической пропаганде о том, что он есть класс-мессия, и национал-социалистической о том, что он есть раса-мессия. Но как объяснить тот факт, что Тимоша, не осиливший даже ученой премудрости ремесленного училища, рассказывая мне о революционных митингах на заводе Лесснера, высказывал искреннее сожаление о том, что этих орателей старый режим не удосужился перевешать всех. И - дальше, - как объяснить мои прогнозы будущего развития исторических событий?
Я, более или менее, окончил Санкт-Петербургский Императорский и Социалистический университет и мое умственное состояние точнее всего можно определить термином: каша в голове. Мне преподавали "науку". О том, что все это ни с какой наукой ничего общего не имеет, я тогда еще не смел и догадываться: до умственного уровня Иванушки Дурачка я еще не дорос. Мой школьный мозг был переполнен призрачными знаниями, знаниями о вещах, которых не было в реальности. Мой внешкольный мозг был снабжен рядом жизненных впечатлений, никак не переработанных и никак не систематизированных, и все они казались мне "наивным реализмом", как солнце, которое вертится вокруг земли и вокруг меня. Потом пришла революция, с ее практической проверкой отношения "теории науки" к наивному реализму. Реализм оказывался прав. Моя юриспруденция оказалась ни к чему: сенатские разъяснения были аннулированы, а гражданские законы были заменены ВЧК-ОГПУ. Мои специальные познания в торговом праве были неприменимы ни к теории, ни к практике мешочничества. Для работы в советской печати у меня оказалось слишком много брезгливости. И я стал профессиональным спортсменом: боролся в балаганах, подымал тяжести, преподавал гимнастику и, наконец, руководил "физкультурой" профсоюза служащих. Это была деятельность, максимально отдаленная от политики, и еще дальше - от философии вообще и от истории философии, в частности. Вот с этим-то образовательным багажом я и бежал за границу.
Читать дальше

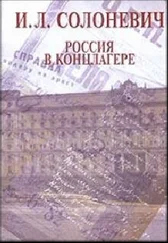




![Иван Солоневич - Россия в концлагерe [дореволюционная орфография]](/books/420858/ivan-solonevich-rossiya-v-konclagere-dorevolyucionna-thumb.webp)

