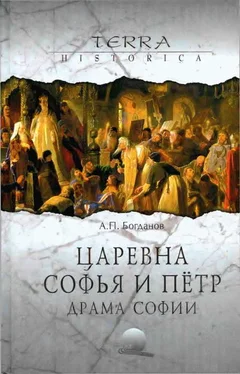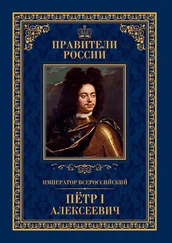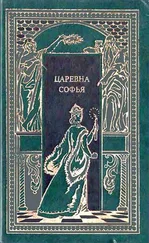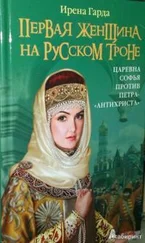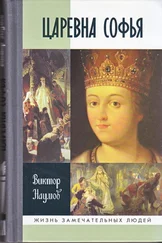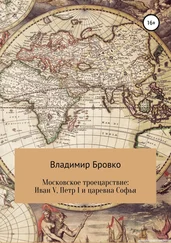Развода, если не считать им уход одного из супругов в монастырь, на Руси не знали.
Власть над Россией с санкции римского папы — нонсенс. Сочиненный Нёвиллем «план» не мог быть осуществлен даже в католической Франции, где династические интересы были выше власти папы, ничего не значившей в России.
Никакого «конкурса красоты» при выборе Иоанну невесты не проводилось. Прасковья Фёдоровна Салтыкова была первой красавицей при дворе, так что ни выбирать ее, ни специально искать ей любовника не требовалось.
Наличие вхожего во дворец «итальянского хирурга» (или, по изданным А.С. Лавровым рукописям, «итальянского лекаря»), в Москве не зафиксировано.
Две первые дочери царя Ивана, Мария (1689) и Феодосия (1690), умерли в младенчестве, три другие были здоровы: Екатерина (1692–1733), будущая императрица Анна (1693–1740) и Прасковья (1695–1731).
В ближний круг царя Петра, как показывает исследование, входили представители практически всех аристократических родов, разумно не ставивших «честь» фамилии в зависимость от исхода политической борьбы. См.: Crummey R.O. Peter and the Boiar Aristocracy. 1689–1700 // Canadian / American Slavic Studies 8 (1974). Просто Нёвиллю был знаком из «любимцев Петра» только Б.А. Голицын.
На самом деле свадьба Петра с Евдокией Фёдоровной Лопухиной состоялась до начала Крымского похода, 30 января 1689 г., когда Софья была всесильной, а канцлер Голицын пребывал в Москве.
Отправление семьи с богатствами в Польшу было невозможным и юридически (по Соборному уложению это каралось как государственная измена), и практически. Зато подозрения в таком замысле, если бы они существовали, непременно были бы расследованы в обширном розыскном деле князей Голицыных.
Идея в духе очередного Лжедмитрия была в конце XVII в. безумной, а канцлер вовсе не был безумцем.
Испр. по рукописям, в публикации Браудо менее точно: «удаление».
Официальные посты канцлера, главы Посольского приказа и дворового воеводы после свержения В.В. Голицына никому из царедворцев занять не удалось.
Нарышкин — здесь и далее речь идет не о «деде царя Петра по матери» Кирилле Полуэктовиче (с 1682 г. — монахе Киприане), а о дяде царя Льве Кирилловиче (1664–1705), неофициально возглавившем после ссылки В.В. Голицына Посольский приказ (1690–1702) и использовавший своё влияние при дворе для бессовестного обогащения. Хитрейший интриган, сумевший свалить канцлера и оклеветать Бориса Голицына, исключить из окружения Петра опасно даровитых людей, настроить царя против супруги и ее родичей Лопухиных, был бездарным политиком, растратившим внешнеполитические завоевания России и покинувшим Посольский приказ после ее разгрома под Нарвой. К тому времени власть Льва Кирилловича сошла на нет — он был правой рукой царицы-правительницы Наталии Кирилловны (1689–1694), вторым в четверке бояр, правивших страной в отсутствие Петра (1697–1698), но уже в 1699 г. реальное руководство внешней политикой перешло к Ф.А. Головину, а внутренние дела — к другим фаворитам Петра.
Л.К. Нарышкин не имел дипломатического опыта, но был изрядным интриганом.
Пьяницы при хроническом алкоголике Петре составляли немалую часть его администрации, но при Нарышкиных они ещё бросались в глаза.
Б.А. Голицын не имел придворного чина дворецкого, так что потерять его не мог. Правда, во время привыкания Петра ко «всепьянейшим» потехам кравчим (виночерпием) служил Кирилл Алексеевич Нарышкин.
Б.А. Голицын был не «с позором изгнан» царём, а пожалован в бояре (28 февраля 1690 г.), минуя чин окольничего, по привилегии аристократических родов, которой не обладали Нарышкины.
Въезд иностранцев не был ограничен, хотя после переворота 1689 г. усилился пограничный контроль. Не запрещена была и католическая служба. По указу царей Ивана и Петра Алексеевичей «для братской дружбы» с императором Священной Римской империи (о котором, как главном враге короля Франции, Нёвилль старается не упоминать), в Москве разрешалось жить и служить в домах знатных иноземцев двум ксендзам. Полагалось следить, чтобы это не были переодетые иезуиты, чтобы ксендзы не посещали русские дома и не вели зарубежной переписки.
Споры о том, следует ли православным изучать все науки или ограничиться чтением и письмом на родном языке, отгремели в Москве ещё в 1660–1670-х гг. Государем и обществом была поддержана мысль о крайней необходимости наук для развития страны. См.: Богданов А.П. К полемике конца 60-х — начала 80-х годов XVII в. об организации высшего учебного заведения в России. Источниковедческие заметки // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода: ежегодник Отдела источниковедения дооктябрьского периода Института истории СССР АН СССР. М., 1986. С. 177–209.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу